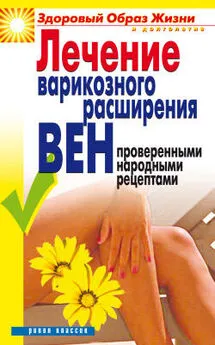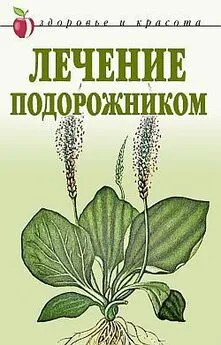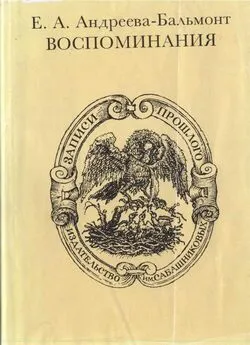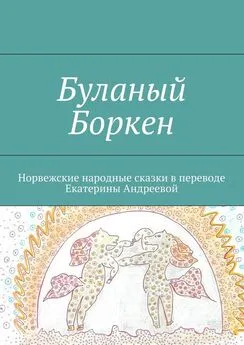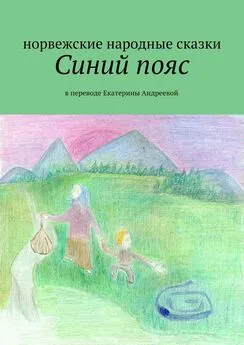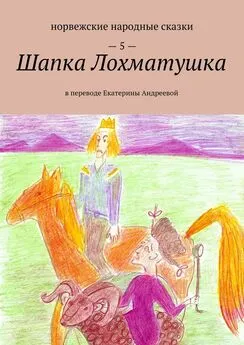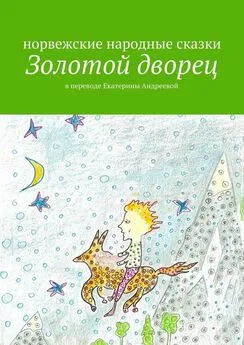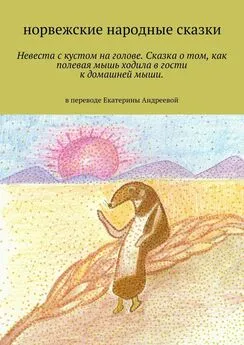Екатерина Андреева - Всё и Ничто
- Название:Всё и Ничто
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент Иван Лимбах
- Год:2011
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-89059-159-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Екатерина Андреева - Всё и Ничто краткое содержание
Книга предназначена читателям, интересующимся историей, теорией и философией новейшей культуры.
2-е издание, исправленное и дополненное.
Всё и Ничто - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Свидетельством тому, что состояние, владевшее сознанием Хармса в последние десять дней жизни Малевича (5–15 мая), можно уподобить «священным собеседованиям» (ведь, хоть говорил он и в одиночку, слова, приходившие ему на ум, им выбираемые и компонуемые, были всечеловеческими изречениями), становится стихотворение-молитва, о котором известен не только день, но и место создания: Марсово Поле, 13 мая 1935 года:
Господи пробуди в душе моей пламень Твой
Освети меня Господи солнцем Твоим
Золотистый песок разбросай у ног Моих
Чтобы чистым путем шел я к Дому Твоему
Награди меня Господи Словом Твоим
Чтобы гремело оно восхваляя чертог Твой
Поверни Господи колесо живота Моего
Чтобы двинулся паровоз могущества Моего
Отпусти Господи тормоза вдохновения Моего
Успокой меня Господи
И напои сердце мое источником дивных Слов Твоих.
Итак, перед нами два стихотворных заклинания, следующих друг за другом – на смерть, и потом на творчество, стремящееся к вечной жизни: в духе «иконы» Малевича, вести о смерти одного мира и прихода другого, преображенного [48]. Исследователи творчества Хармса предлагают разные варианты прочтений первого из них, темного и драматического. В. Н. Сажин пишет о том, что этот текст связан с традицией поминального окликания или «бужения» покойного, обрядовых действий для облегчения смерти («растворю окно»). Он также указывает на египетский контекст риторики и символики Хармса: зачин «Имя тебе»; возможное истолкование «пе» как названия города в Древнем Египте, где отправляли культ бога Гора; чернильницу как атрибут бога Тота, писца на посмертном суде; на вероятную переделку Галатона, александрийского живописца, в Агалтона.
Звук/слог «пе» из другого молитвенного стихотворения Хармса 1930 года «Вечерняя песнь к имянем моим существующей» внимательно исследует Михаил Ямпольский. «Вечерняя песнь» обращена к Эстер Русаковой и содержит также «трр ухо волос моих». Хармс предпослал ей «эпиграф» – нарисовал монограмму окна, в которой Ямпольский открывает графическое соединение букв «П» и «Е». «Пе» является на этот раз женским родовым именем: «дочь дочери дочерей дочери Пе». Ямпольский заглубляет его происхождение в древнееврейскую Каббалу: «Пе …это буква, которая, согласно Ройхлину, прямо соотнесена с существованием духов… „означает интеллектуальную душу, единичную и всеобщую“ <���…> Марк-Аллен Уакнин дает каббалистическое толкование Пе: „ рот : говорить, дышать, освобождать, выдыхать, отверстие, секс, передача памяти, рассказ“» [49]. Поэтическую молитву Хармса Ямпольский трактует как заклинание духов, призывание ангелов явиться в нарисованном для них магическом окне-иероглифе «Пе», который в данном случае означает зашифрованное имя возлюбленной поэта и открывает ему, повелевающему духами, звуками и словами, путь в душу и тело Эстер. Но тогда чем является «пе» послания к Казимиру, как не закрывающимся со смертью Малевича окном и в духовную память, и в человеческое сознание? Чтобы удержать эти память и сознание в себе, Хармс заклинает: «Дай мне глаза твои! Растворю окно на своей башке!»
Как полагает Н. В. Злыднева, «концепт памяти с сопутствующей ему здесь семантикой прерванной континуированности… определяет общую смысловую стратегию текста. М. Ямпольский обратил внимание на арифметический абсурд знаменитого Гераклитова афоризма в 21 строке Десять раз протекла река пред тобой , который вносит дискретное начало в реку-память, отрицая тем самым последнюю. <���…> Память, будучи семантически аннулированной, то есть маркированной негативно, в этом своем негативном виде явно доминирует в мотивике произведения» [50]. Злыднева предлагает наиболее подробный анализ стихотворения с большим числом любопытных ассоциаций и перекрестно найденных мотивов в поэзии Хармса и Хлебникова. В частности она пишет: «Три названных слова (память, чернильница, желание. – Е. А .) образуют своего рода пирамиду. В тексте имеются и другие триады – три числа для обозначения времени… а также самая значимая из них, которая образована тремя именами (Казимир, Агалтон и Пе-трр)… Мотивная троичность текста вызывает зрительные ассоциации с пирамидой… Известен интерес Хармса к древнеегипетской литературе (в значительной мере обусловленный текстами Хлебникова). <���…> В свете последнего примечательна этимология имени Казимир, принадлежащая В. Хлебникову: Казимир как Казни-мир. <���…> Номинативная квинтэссенция в виде сдвоенного имени Казимир + Петр становится состоянием – состоянием мира, казнящего и казнимого одновременно. <���…> Фюнеральный код времени выступает в плане прецедента его трагической героики – смерти заложившего ее фундамент и ею же погребенного великого мастера, но также и в плане предощущения неминуемой гибели самого поэта» [51]. Отметим решающий ход интерпретатора: Злыднева, возводя фундамент своего логического анализа, прибавляет к «Пе» «Трр» и получает «сверхимя Петр (ПЕТРР)», в котором соединяются и Петры с Петровыми из персонажей Хармса, и П. Д. Успенский, и Петр Первый и, конечно, св. апостол Петр [52].
Дойдя до ПеТрра – фонетического кощунства, замечаешь, что такой геометрически логичный путь анализа стихотворения приводит, в конце концов, к выводам, очевидным из первой строки «Послания», но этого пути невозможно последовательно придерживаться в любой точке текста, например, там, где «Трр» связано с желанием и как-то погружено в «Пе» – пересыхающую чернильницу. Не говоря уже о том, что многие полагают, будто «Трр» могло ведь появиться из «Тпру», а могло из глохнушего тракторного мотора [53]. Хармс, подобно своему предшественнику Хлебникову, наделял буквы и их сочетания смыслом заумно, то есть фонетически и графически. Буквенными обозначениями звуков он «иероглифически» вторгался в регулярные порядки слов и смыслов, нарушая их строй и перенаправляя смыслы в соответствии с авангардной тактикой второго «Садка судей», где буквы – направляющие речи [54]. У Хармса смысл таких «иероглифов» Пе и Трр является переменным. Фраза «желание твое – трр» также алогично открыта для восприятия, как и «все, от слез до медуницы / все земное будет „бя“ / корень из нет-единицы / волим вынуть из себя» Хлебникова. «Трр» и «Бя» невольно воспринимаются как возгласы в противоборстве, подобном ритуальной борьбе Поста и Масленицы. А обращенное возлюбленной «трр ухо волос моих» интонационно транслирует не горе, но сладчайшую негу ласки, и в этом смысле сближается с животворным «бя». Птичий язык поэтической музыки/бессмыслицы многомерен в нотной буквенной записи звуков [55]. Тональность звучания, всякий раз особенно связанная с контекстом речи, отвечает за истинность высказывания, тогда как само иероглифическое написание, ломая строку, индексирует момент истины. Одна из функций заумного языка на историческом фоне советского новояза 1930-х, обремененного еще в предыдущем десятилетии буквенными аббревиатурами и геометрией не слабее Каббалы [56], заключалась в ясном, истинном или нефальшивом звучании живого голоса – возгласа – среди мертвого пространства, где бушует советская нежить. Это окликание, но не только покойника, а мира и самих себя, погруженных, по словам близкого Хармсу и обэриутам мыслителя-чинаря Леонида Липавского, в каталепсию безвременья, полдневный панический ужас. С такой точки зрения в стихотворении на смерть Малевича не только открывается «фюнеральный код», или оплакивание, но и звучит вопрошание о бессмертии в духе вопроса Ивана Карамазова: «Есть ли Бог и есть ли бессмертие?», которое в мае 1935 года было гораздо уместнее огласить через Малевича, чем через Олейникова в качестве «медиума».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: