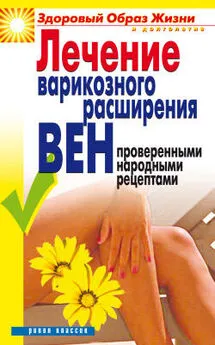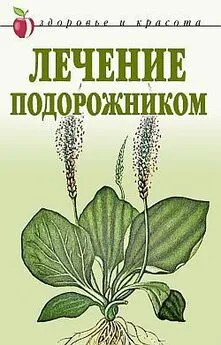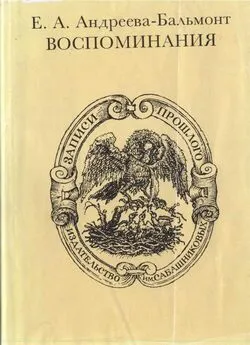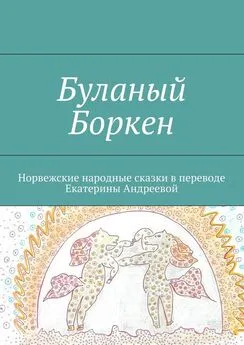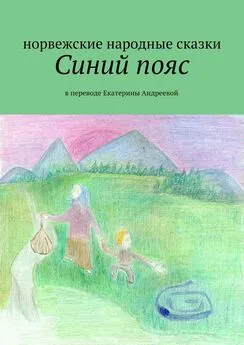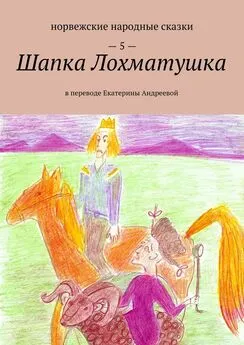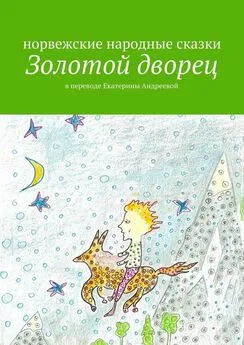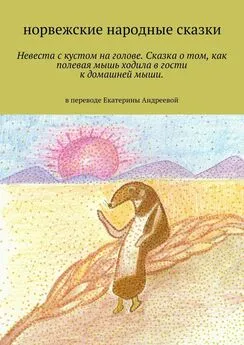Екатерина Андреева - Всё и Ничто
- Название:Всё и Ничто
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент Иван Лимбах
- Год:2011
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-89059-159-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Екатерина Андреева - Всё и Ничто краткое содержание
Книга предназначена читателям, интересующимся историей, теорией и философией новейшей культуры.
2-е издание, исправленное и дополненное.
Всё и Ничто - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В конце 1960-х Михнов приходит, как и многие большие мастера XX века, к минимализму: он ограничивает себя в творческих средствах, придумав способ «растекать краску» – темперу, соус, гуашь, акварель – на бумаге небольших форматов. Истоньшая телесные пласты своей живописи, он выбирает не минимализм формы, а композиторское самоограничение в изобразительных средствах, чтобы заново открыть истину, подвергнутую сомнению: при помощи живописных средств можно создавать бесконечно разнообразные формы. Он выбирает себе канон, живописное послушание, чтобы представить свободу как результат. Потому что свобода важна не для самой себя, не для самовыражения, но ради полноты представления мира, в котором взгляд абстракциониста Михнова видит чрезвычайно остро, конкретно и живо. Взгляд Михнова способен в секунду преодолеть дистанцию от изначального, неоформленного материала, взятого в полноте чистоты, до совершенного образа. Михнов, будучи идеальным современным художником, не скрывает свои выразительные средства, дает им жить, но, подобно художникам классическим, он представляет и абсолютно убедительный, свободный от воли своего создателя, совершенный образ, который получает уже собственную жизнь, отдельную от материалов, пошедших на его постройку. Так примерно из открытого звука в стихотворении друга Михнова, поэта Леонида Аронзона устремляется в пространство мира обэриутский жук – «Гудя вкруг собственного у / Кружил в траве тяжелый жук», – делая живыми и вечное лето, и поэтическую традицию.
Михнов говорил, что игра в искусстве идет не на выигрыш, а на процесс, причем целью процесса является «разбуженная природа». Эту «природу» можно видеть и понимать многообразно. В композициях Михнова заключено множество ассоциаций и связей; сам он оставил многочисленные посвящения, которые побуждают искать в абстракции красок конкретные явления: музыку Баха, картины Поллока, Босха и Брейгеля или же черты окружавших художника людей. И эта конкретность Михнова никогда не бывает обманчивой. Он действительно воссоздает суть события; действуя краской, мастихином и водой, добивается пронзительного встречного движения восстающей реальности, возникающей из тела бумаги навстречу взгляду художника и зрителя. Интересующиеся могут сопоставить композицию, посвященную безвременной смерти Аронзона с действительными обстоятельствами этой трагедии. Михнов не представляет умирающего поэта и осенние окрестности этой страшной охоты; но в его небольшом абстрактном графическом листе есть все это и даже больше. В нем есть эпитафия Аронзону и самому себе, художнику, приговоренному быть верным своему спонтанному дару, фаворскому свету в условиях стесненного духа, неприятия искусства и ежедневной лжи. Михнов каждой своей удавшейся картиной убеждает в особой истинной конкретности искусства: в необходимости живого образа, который независим от того, реалистический или абстрактный тип изображения выбран, от того, осуществляет ли себя этот образ в живописи, поэзии, музыке, жизни или театре. Абстракции Михнова как система творчества совершенны, ведь они представляют формализованный свод истин, но вместе с тем каждая из них, доросшая до своей зрелости, являет собой чудо рождения конкретного, неповторимого образа, незабываемого во всей своей красочной живописи-жизни, как строка Аронзона, описывающая восемью словами целый мир, «где голубой пилою гор / Был окровавлен лик озер».
Надо сказать еще о системности абстрактной живописи Михнова, потому что здесь он тоже двигался собственным путем, никому не подражая и открыв абстрактной традиции еще одну конкретную возможность развития. Теперь, когда XX век закончился, мы вспоминаем художников, которые стали символами его начала – изобретателями нового языка абстракции. Сравнить Михнова можно с великими абстракционистами Малевичем, Мондрианом, Кандинским и Поллоком, которые видели в открытом ими живописном языке всеобъемлющие системы мировоззрения. Они специализировали этот язык в зависимости от собственных интересов и склонностей, от своей природной пластики. Так, Кандинский воплотил в столкновениях красок и линий энергию жизненного потока, преобразующего себя под давлением борющихся сил хаоса и гармонии, восходящего к метафизическому свету или сворачивающегося в причудливые биоморфные клетки. Малевич дал представление о мощи базовых конструктивных элементов, в которых проявляет себя метафизика мира, постепенно растворяя конструкцию и исчезая в изначальном безвесии несмысла. Поллока обуревал абсолютный динамизм творческой экспрессии личности. Михнов в этом ряду встает единственным классицистом, чье сознание резонирует не природе или религии, не биологии или физике, но именно важнейшим элементам человеческой культуры (европейской живописи, музыке, литературе, восточной философии дзен-буддизма). В этом отношении Михнов-Войтенко завершает революцию абстракции во второй половине столетия вместе с гораздо более известным Герхардом Рихтером, показывая, что она – один из равноправных языков человеческой культуры. Язык, не отменяющий все прежнее как речь сверхбытия или как сокрушительный последний акт самовыражения перед погружением в хаос, но – и в исполнении этой темы Михнов пребывает уникальным и неповторимым мастером, – как полифоническое звучание светоносных образов, созданных творцами всех эпох истории человечества. Главное – Михнов ощущал себя призванным тысячи раз самому погружаться заново в длящийся безымянный акт творения, в «радость через глаза», в свободу, которая, по словам Бердяева, «вкоренена не в бытие, а в ничто…» [203].
Осознание единственности своего выбора всегда делало Михнова довольно одиноким человеком. Как пишет Андрей Хлобыстин, «многие, вспоминающие о Михнове-Войтенко, говорят о нем, как о демонической личности, абсолютно не терпимой к чужому мнению… Этому соответствуют высказывания, типа: „Я ненавижу людей, и поэтому я дал им гармонию“. В нем, как и в некоторых других послевоенных юношах, чувствуется …непреклонная ярость бойца, вызов и наглость в отстаивании своей индивидуальности („Искусство – школа мужества (один на один)“ М. В.). О природе этого послевоенного чувства жизни, оборотной стороной которого был романтизм, увлечение эзотерической философией, Дзеном, поэзией и музыкой, можно написать самостоятельную работу. Со многими друзьями – поэтами и художниками, тянувшимися к нему, как к бескомпромиссно самостоятельной до эгоизма личности и мощному энергетическому источнику, он перессорился. Талант вел его одиноким, трагическим путем, где поддержкой ему были гении умершие или находящиеся вне достижимости. На своем пути художник не имел и не хотел иметь выбора. В 80-е годы, особенно после смерти матери в 84-м году, художник замыкается в себе, становится нелюдим. Умер художник в Ленинграде 2 октября 1988 года и похоронен на Южном кладбище» [204].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: