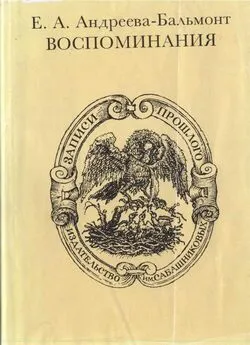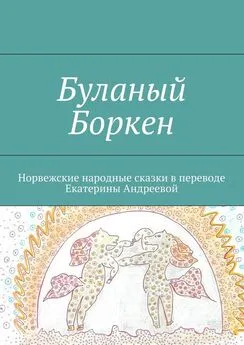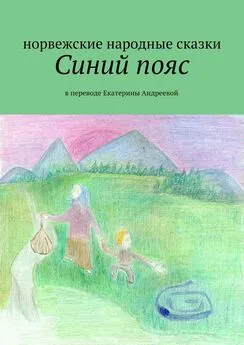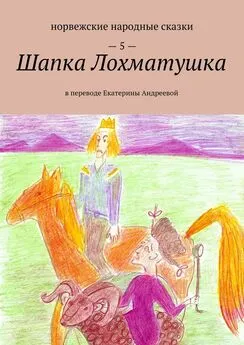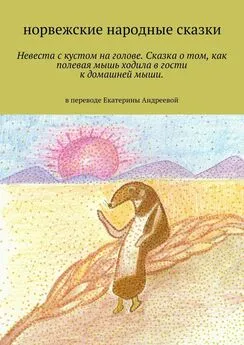Екатерина Андреева - Всё и Ничто
- Название:Всё и Ничто
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент Иван Лимбах
- Год:2011
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-89059-159-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Екатерина Андреева - Всё и Ничто краткое содержание
Книга предназначена читателям, интересующимся историей, теорией и философией новейшей культуры.
2-е издание, исправленное и дополненное.
Всё и Ничто - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Качество, к которому стремится эта геометрическая абстракция, – абсолютная объективность, репрезентированная через объективность рабочей вещи как формы, которая совершенно отражает в себе функцию и совпадает в этом отношении с геометрической плоскостью открытого цвета. Супрематические рельефы стремятся к имперсональности выражения, так же как к ней стремились проуны, придуманные Эль Лисицким в начале 1920-х годов. Имперсональность обеспечивает высший метафизический ранг такому искусству. В 1922 году в Берлине Лисицкий вместе с Эренбургом издает журнал «Вещь», который пропагандирует объективную культуру, производящую вещи для всех, а художнику в такой культуре отводится место инженера или, как бы теперь сказали, дизайнера. Свое издание Эль Лисицкий осеняет воспроизведением «Квадрата» Малевича. В книге А. Озанфана «Основы современного искусства» (1928) говорится о том, что геометрия – основное свойство природы, поскольку мы прежде всего воспринимаем структуры. Геометризированные вещи сливаются в геометризированную среду, спроектированную художниками-инженерами, как Лисицкий, или Мохой Надь, или Родченко, или ученики Малевича. Так, вещи формируют мегапроизведение под названием «современность», делают новый мир, отличающийся от старого своей абсолютной объективностью, то есть в конечном счете – объектностью, материализмом отношений. В конце 1920-х годов Сергей Третьяков пишет статью «Биография вещи», которая была опубликована в первом сборнике ЛЕФа (1929). В этом тексте он призывает перестроить метод литературного творчества так, чтобы произведение возводилось вокруг вещи-как-сюжета, а не истории того или иного героя-персонажа. Вещь становится главным действующим лицом имперсонального искусства, собирательным образом, за которым стоят массы: «Не человек-одиночка, идущий сквозь строй вещей, а вещь, проходящая сквозь строй людей. <���…> Нам настоятельно нужны книги о наших экономических ресурсах, о вещах, которые делаются людьми, и о людях, которые делают вещи. Наша политика растет на экономическом стволе, и нет ни одной секунды в человеческом дне, которая бы лежала вне экономики, вне политики. Такие книги, как Лес, Хлеб, Уголь, Железо, Лен, Хлопок, Бумага, Паровоз, Завод, – не написаны. Они нам нужны и могут быть выполнены наиболее удовлетворительно только методами „биографии вещи“. Больше того, самый человек предстанет перед нами в новом и полноценном виде, если мы его пропустим по повествовательному конвейеру, как вещь» [223]. Как это ни парадоксально звучит, но сама степень символической выразительности, которой Третьяков нагружает вещь, сопрягая ее с целыми комплексами явлений, с природой и социумом, сближает по градусу революционного романтизма эту ультраматериалистическую позицию с глубоко интравертной позицией Хайдеггера, последовательного противника ренессансного и просвещенческого знания, опредмечивающего мир в картине вещей. На том абсолютном плане, к которому каждый со своей стороны стремятся и Третьяков, и Хайдеггер, вещь на рубеже 1920–1930-х годов воплощает в себе мировую суть, высшую истину, а не товар или конкретный предмет потребления и производства [224].
Любопытно, что в революционной ситуации начала 1920-х годов Лисицкий еще мог одновременно сотрудничать в журнале «Мерц» у Курта Швиттерса (1923–1924 годы), то есть разделять антиконструктивистский дадаистический способ понимания вещи. Надо полагать, возможностью для подобного сближения было именно общее эстетическое восприятие вещи как авангардного художественного средства, как Urmotiv (Г. Земпер), то есть как модернистского первообраза. Композиции мерц-бау, которые делал Швиттерс, как и проуны, напоминали протоинвайронменты, сооруженные в комнатах, и относились к эстетическому способу аранжировки предметов в эффектные фактуры и динамические композиции. Но если Лисицкого и Пуни интересовали динамика и чистые геометризированные фактуры, вещи, редуцированные до символической геометрии, то Швиттерса, наоборот, привлекала гетерогенная смесь из старых предметов, более художественная с экспрессионистской точки зрения, претендующая на свободу импровизации, автоматизм и спонтанность творческих проявлений.
Мерц – свободное от смысла сочетание звуков, мерцающее между херц (сердце) и шмерц (боль, страдание). Оно раскрывает принципиально иной, сюрреалистический интерес к вещам. Как это становится очевидным из любых попыток уловить и зафиксировать смысл эталонных произведений Дюшана, мерцание вещи, превращение ее в своеобразный смысловой и формальный «колебательный контур» – это основная характеристика сюрреалистической эстетики. Дюшан и Мэн Рэй демонстрируют предмет как вещь-в-себе, которая обладает мощным потенциалом неясности, загадочности. И этот потенциал регистрируется на стыке формы и функции или формы, функции и названия. Так, велосипедное колесо, писсуар и сушилка для бутылок имитируют новую абстрактную скульптурную форму; чехол от печатной машинки «ундервуд» – таинственный аксессуар путешественника. Так, плечики, собранные Мэн Рэем в пространственную конструкцию-скульптуру, получают название «Обструкция» и вместе с ним способность стать чащей геометрических форм, препятствующей продвижению взгляда, способность быть бытовым комментарием конструктивистских притязаний на абсолютное торжество сквозной конструкции и рациональной формы. Особенный навык сюрреалистов, как известно по найденным объектам и рэди-мэйдам, заключался в том, чтобы заметить эту эманацию странного или чудесного в каких-то самых обычных вещах, или в том, чтобы создать вещам такую нечаянную встречу, внезапную ситуацию, в которой те смогли бы раскрыть себя с неожиданной стороны. Дюшан, например, собирает маленькие модели своих объектов в «Bojte-en-Valise» (1941) – подобии то ли походного алтарика, то ли реликвария, то ли чемоданчика коммивояжера, соединяя товарный фетишизм и католическую традицию, две духовные силы современности, в один пучок энергии, оживляющий переносной ларец-театрик, где хранятся преображенные расчески, сантехника, детали велосипедов и т. д., готовые разыграть свое балаганное представление, как куклы-актеры. Название, как всегда у Дюшана, и есть целая пантомима, поскольку слово «bojte» означает и ящик, и табакерку, и небольшую квартирку, и тюрьму, и учебное заведение; все эти противоречивые обстоятельства места художник «запирает», как марионеток, в одном чемодане (valise).
Другой путь к достижению мерцания смысла и «смятенного взгляда» – селекционные изменения вещей, словно бы они живы и подвержены мутациям. Такую процедуру совершает Мерет Оппенгейм («Объект», 1936), наращивая мех на чашку с блюдцем так, чтобы обыденное восприятие буквально зашлось от невозможности осуществления естественной коммуникации с предметом, парализованное сексуальной притягательностью этой странной меховой полости; или позволяя венам проступить на поверхности перчатки. Аналогично действует Мэн Рэй, вшивая гвозди в утюг («Подарок») или соединяя магнит и пистолет в один действующий смысловой и формальный, почти звучащий блок («Компас»). Вещи, таким образом, превращаются в подобие чужеземных сакральных объектов, сохраняя в отдельных случаях (писсуар, колесо, сушилка для бутылок) пафос совершенной, нерукотворной промышленной формы. Идеальный пример такого абсурдистского предмета-идола – «Белый телефон-афродизиак» (1936) Сальвадора Дали.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: