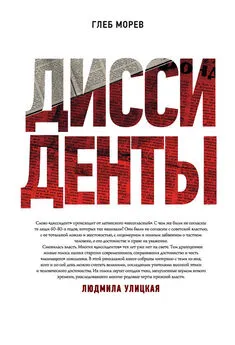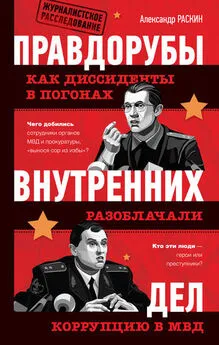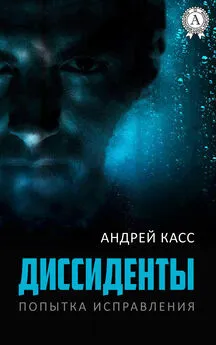Глеб Морев - Диссиденты
- Название:Диссиденты
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство АСТ
- Год:2017
- Город:М.
- ISBN:978-5-17-100509-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Глеб Морев - Диссиденты краткое содержание
Диссиденты - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:

Середина 1970-х, в Грузии
© Из архива Михаила Мейлаха
Говоря о моем детстве: я рос, в общем, в привилегированной семье. Отец мой – ученый, профессор [Борис Соломонович Мейлах], стоял на достаточно официальных позициях, однако при этом пользовался уважением: все его коллеги говорили, что он никогда никому ничего плохого не сделал (обычно одно с другим не сочетается), а в годы борьбы с космополитизмом сам висел на волоске. При этом меня, трехлетнего, он в то же страшное время отдал в совершенно старорежимный домашний детский сад, где нас обучала языкам дочь бывшего товарища министра, потом меня передали чудом уцелевшему старому викторианскому джентльмену. Но с детства, буквально со школьных лет, я испытывал давление, которое резко отвергал. Скажем, в пионеры всех принимали скопом – исключение сделали только для мальчика, у которого сидели родители (это было еще при Сталине), и ненадолго для одного отпетого хулигана. Но и меня из пионеров быстро вычистили за то, что я отказался идти «в культпоход» – так назывались хождения всем классом на какой-нибудь фильм или спектакль (а походы на природу назывались «вылазкой»). Отказался я просто потому, что я этот фильм уже видел, но это было расценено как антиобщественный поступок. Алексей Герман, мой сосед и друг, считал, что мой будущий арест можно было предсказать по тому, что, когда в школе потребовали, чтобы мы принесли какой-нибудь металлолом, я за неимением лучшего притащил венки с так называемых братских могил жертв революции на Марсовом поле, где мы жили (кстати, не тех жертв, но тогда я этого, конечно, не понимал). В общем, не вдаваясь в детали, в школе я постоянно был «белой вороной». В начальных классах училка меня ненавидела, без конца ставила в угол да приговаривала: все дети, а он – мыслЕте (старославянское название буквы «М», выдававшее ее церковноприходское образование). А в комсомол я не стал вступать в 8-м классе уже сознательно, но исправно посещал подготовительные занятия, потому что был безнадежно влюблен в десятиклассницу, которой поручили их вести (она уже давным-давно живет в Израиле). Из Устава комсомола, который мы изучали (и она, и мы относились к этой чепухе иронически), я запомнил замечательную фразу: комсомолец должен бороться с пьянством, хулиганством и «нечестным отношением к женщине» – такая была формулировка для подрастающих богатырей. Но когда занятия были окончены, я от вступления уклонился, а это было уже вызывающе и имело такое продолжение. Когда академику [Виктору] Жирмунскому удалось с большим скрипом меня протащить в аспирантуру Института языкознания, мы, выпив на радостях, пришли туда с [Иосифом] Бродским, который с Жирмунским был знаком – последний, в частности, выступал в «Литературных памятниках» за издание его переводов Джона Донна и других английских метафизиков. Они разговорились, а мимо тем временем проходил один из сотрудников специфически советской внешности, искоса взглянувший на Бродского – чутье у подобных людей (как, впрочем, и у нас на них) было безошибочное. Заметив этот взгляд, Бродский, наивно полагая, что в Институте языкознания не поймут его пиджин дойч, как он сам его называл, спросил Виктора Максимовича: это что, ваш партайгеноссе? А тот, между прочим, был германистом… А меня директор [А.В.] Десницкая со спецулыбкой подвела к секретарю комсомольской организации со словами: «Вот вам пополнение прибыло» – на что я мрачно сказал, что я не комсомолец. Оба эпизода задали тон моим отношениям с институтом, откуда меня в конце концов убрали. Сама Десницкая была дама достаточно либеральная, но все-таки директор и, в отличие от своего отца, друга Ленина и Горького, член партии. Отец же сей, которого я видел в детстве в Крыму, где он собирал на берегу моря знаменитые коктебельские камушки, вышел из партии не раньше и не позже, как в 1917 году, заявив Ленину, по рассказу того же Жирмунского, что не хочет быть как пес, который возвращается на свою блевотину (первое образование у него было духовное).
Вообще же, еще когда я был студентом, Жирмунский, который очень хотел возобновить занятия провансалистикой, то есть языком и поэзией средневековых трубадуров, до революции процветавшие в Петербургском университете, начал меня к этому подготавливать, фактически для одного меня прочитав целый курс у себя на даче в Комарове, где я регулярно его навещал. По окончании мною университета он добился для меня аспирантского места в упомянутом Институте языкознания, но поступлению моему воспротивился Василеостровский райком партии. Виктор Максимович забеспокоился – его планы рушились – и сам поехал в этот райком. Вернулся веселый – по его словам, ничего страшного: «Они сказали: главное ваше преступление – что вы защищали поэта Кривулькина на каком-то диспуте в университете». Действительно, фигура Вити Кривулина, как бы к нему ни относиться как к поэту, едва ли могла казаться серьезной человеку, полвека назад написавшему статью «Преодолевшие символизм».

1983
© Из архива Михаила Мейлаха
Но правды Жирмунскому там, конечно, не сказали: несомненно, райком действовал по указке КГБ, где у меня к тому времени наверняка уже было достаточно большое досье. А какое это могло быть досье? Опять-таки из-за врожденного ощущения свободы, непонятно почему мне присущего, я и в школе, и в университете держал себя достаточно независимо. Например, говорил направо и налево, что я ленинец, потому что мой лозунг – «Никакой поддержки временному правительству!», имея в виду правительство советское, и заявлял, что я в одностороннем порядке его отменил. Ну и так далее. Такое свободное поведение никак не приветствовалось, хотя по оттепельным временам было не фатальным. Но оставался, конечно, вопрос общения с иностранцами. Хотя в основном это относилось к людям, занимавшим официальные должности, но и обыкновенные советские граждане не должны были свободно с ними встречаться. Технически возможно было просочиться даже в гостиницы «Интуриста», но и за иностранцами, и за гражданами, которые с ними общались, была слежка, так как те считались потенциальными врагами. А в университет постоянно приезжали стажеры из Америки и других стран, и, конечно, я и мой друг Гена Шмаков, который, кстати, и жил рядом с их студенческим «общежитием на Шевченко», интенсивно с ними общались. Когда уезжали одни, они давали наши координаты тем, кто приезжал вслед за ними на следующий год, – свято место пусто не бывало. Собственно, то собрание книг на русском языке, изданных за границей (тамиздата), за которое меня посадили, – и настоящая антисоветчина, и все, что считалось таковой, – все это собиралось годами, даже десятилетиями тоже в основном через тех же стажеров, которые могли получать посылки из-за границы по дипломатической почте, и ЦРУ охотно этим пользовалось. Скажем, ты просишь Мандельштама и Набокова – пожалуйста, но они клали туда в придачу Авторханова или чудную книжку покойного [Леонида] Финкельштейна «Советский космический блеф» о полете Гагарина. Так все это и образовывалось. И не только со стажерами мы общались: и с корреспондентами западных газет, и с дипломатами – в Москве было несколько дам, державших салоны, где они толклись, – и, конечно, с приезжавшими коллегами. Вот, скажем, приезжала Марина Ледковская, это отдаленная родственница Набоковых, мы с ней встречались, гуляли по Петербургу, я водил ее на службу в Александро-Невскую лавру, где она поднялась на хоры и присоединилась к певчим… Потом в моем деле я нашел, что в таком-то году у меня была встреча с антисоветчицей Ледковской, которая в молодости жила в фашистской Германии, была членом НТС. И с Еленой Владимировной Набоковой, сестрой писателя, мы дружили, она приезжала каждую весну… Слежка слежкой, а в 1964 году, когда я учился на втором или третьем курсе, было дело Бродского, которое я воспринял очень болезненно, три раза ездил к нему в ссылку, и тут я уже засветился, если можно так выразиться, по полной – вскоре у меня дома был первый обыск. Так что дело было совсем не в «Кривулькине», но аспирантуры Жирмунский все же добился «благодаря врожденной настойчивости и приобретенному авторитету», как он выразился на своем книжном языке. А может быть, мои «ошибки» просто списали на молодость.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: