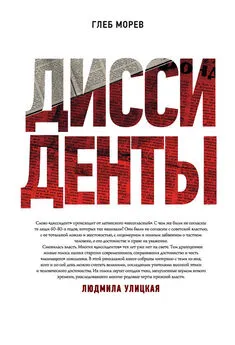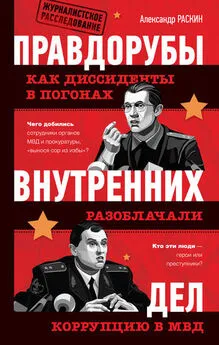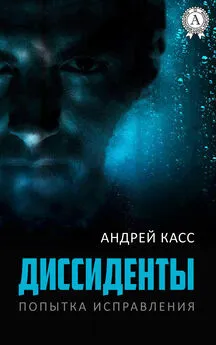Глеб Морев - Диссиденты
- Название:Диссиденты
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство АСТ
- Год:2017
- Город:М.
- ISBN:978-5-17-100509-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Глеб Морев - Диссиденты краткое содержание
Диссиденты - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
– Каковы были условия, тяжело приходилось? Или уже сравнительно гуманное было отношение?
– Да нет, никакого гуманизма не было и в помине. Это была машина, полностью контролируемая КГБ. И это было продолжение политики следствия. Потому что это параноидальное требование сотрудничества и раскаяния сохранялось и там, а тех, кто сохранял свои позиции, что называется, прессовали по одной и той же схеме: сперва наказывали лишением ларька (раз в месяц можно было что-то купить не больше чем на тогдашних пять рублей – осьмушку чаю, сигарет, банку повидла, пачку маргарина), потом переписки, потом посылок (всего-то двух в год по 5 кг), потом свиданий с родными (у меня не было ни одного), дальше шел ШИЗО (штрафной изолятор в холоде и с пониженной нормой питания), потом ПКТ (помещение камерного типа, нечто вроде внутренней тюрьмы) и, наконец, так называемая крытка, то есть крытая тюрьма (для политических – во Владимире). Я успел доехать только до ШИЗО. Но, конечно, со сталинскими лагерями все это не сравнить. А когда я побывал в Аушвице, то понял, что моего времени зона – это просто санаторий, оздоровительное учреждение. Но, конечно, зона есть зона, и главное проклятие – это работа. Вообще зона не была ориентирована на физическое убийство, как в сталинское время, хотя слабые здоровьем люди все-таки не выдерживали. А я, наоборот, укрепился, развился физически.
– А чем вы занимались, что вы делали в лагере?
– Сначала меня усадили делать детали для электрических утюгов, там был такой заводик маленький. Норму мне выполнить не удавалось, и вообще это однообразная и противная работа, поэтому в результате, когда подвернулся случай, я выбрал работу в кочегарке – очень тяжелую, но она давала некоторые преимущества. Тяжелую, потому что сначала надо было расколоть смерзшийся уголь, привезти его, потом бросать его в печи, потом вывозить дымящий шлак, который бьет тебе газом в морду, от него задыхаешься. Но несравненное преимущество – что кочегарка стоит на отшибе, в стороне, и ты отчасти выпадаешь из режима. Например, в ночные смены менты заходили раза два, а если быстро все сделать, то можно было даже что-то почитать, принеся в сапоге. И опять-таки это физическая работа – на пользу. А когда я, справившись с ней, выходил в эту уральскую зиму и смотрел на яркие звезды, я был почти счастлив. В основном я там и проработал. Поскольку же большая часть тепла уходила ментам за зону (в бараке в морозы было +6°), то я определил для себя такой принцип: в мороз нечего стараться – все равно не натопишь, а когда тепло, нечего и топить, и вообще источник тепла должен быть внутри человека. Это, конечно, шутка. А мороз однажды был –52°, что-то нечеловеческое. Все-таки Урал.
– Было ли возможно по условиям лагеря что-то читать или писать?
– Времени оставалось очень мало. Кроме восьмичасового рабочего дня еще посылали на какие-то бессмысленные работы «по благоустройству зоны».
– Это сверхурочно?
– Да. Один день снег перекидывался слева направо, на другой день тот же снег – справа налево. Было, правда, воскресенье, когда не полагалось никого трогать, оставалось какое-то небольшое время вечером. Там можно было выписывать любые журналы, издаваемые в России. Договаривались: кто-то выписывает один журнал, кто-то – другой. Кстати, я заметил, люди пользовались этим приемом и на свободе – когда началась перестройка и журналы стали интересными, потому что соревновались в печатании того, что не издавалось в подцензурные годы. Была библиотечка с классикой вперемешку с чудовищной советской продукцией – я с наслаждением перечитал Толстого… Но времени было мало! А что касается писания, все написанное конфисковалось. Что-то нейтральное можно было послать в письмах домой (дважды в месяц, если ты не лишен переписки, что случалось частенько), но цензорша, жена кого-то из начальников, во всем параноически видела иносказание и часто письма конфисковала. Тем не менее в письмах маме мне удалось переслать буквально по строчке целую книгу стихов, которую я там написал, сопровождая комментариями: вот какое замечательное стихотворение Евтушенко я прочитал в газете «Правда» – а в следующем письме – следующая строчка. А мама из полученной мозаики склеивала тексты. Книгу я озаглавил «Игра в аду», хотя Бродский потом предложил другое название – «Камерная музыка». Он собирался написать к ней предисловие – мы как раз говорили об этом незадолго до его смерти.

В Музее истории политических репрессий «Пермь-36», ШИЗО. 1990-е
© Из архива Михаила Мейлаха
– Конфискованное уничтожалось?
– Да, уже невозвратимо. Но все, что у меня забрали при обыске, потом в тюрьме, чудом сохранилось и в перестройку ко мне вернулось.
– Так как вы читали в лагере московские газеты и журналы, насколько неожиданным было для вас освобождение в начале 1987 года?
– Абсолютно неожиданным! Там кроме официальной прессы был и телевизор – разрешена была только 1-я программа, хотя прочие мало от нее отличались. Но я его почти не смотрел. Когда появился Горбачев, он был воспринят как еще один болтун. Я убежден, что и освобождение произошло не в ходе самой перестройки (это случилось бы, но позже), не из-за его, так сказать, гуманизма и доброй воли, – наше освобождение выколотил, конечно, Запад: Миттеран, Тэтчер. Он хотел с ними дружить, а они совали ему в морду списки политзэков. Я, кстати, хотел с ним об этом поговорить, даже просил устроить с ним свидание, но он едва ли раскололся бы. Нет, для нас это была абсолютная неожиданность. В амнистию свято верили «старики», сидевшие по второму разу за военные преступления на оккупированных территориях. Мы же абсолютно не верили: ведь в Советском Союзе за 140 лет (считаю год за два) не было ни одной амнистии политзаключенных (другое дело – классово близкие властям уголовники). Я в общем-то приготовился всю жизнь сидеть – собственно, кто не раскаялся, с теми обычно так и бывало. Когда меня арестовали и запихнули в камеру, в первый день мне было очень смешно, что я в тюрьме: «Сижу за решеткой в темнице сырой…» Глядя на эти скучные стены и решетки, я очень, помню, смеялся. А на следующий день трезво на все посмотрел и сказал себе: случай со мной – по крайней мере, сорокамиллионный, так что не будем делать из него, как говорят по-французски, grand-chose: что есть, то есть, радоваться нечему, но и рвать на себе волосы тоже нечего. Это непреодолимая сила. Но когда на зоне у меня случился перитонит, а его запустили и я уже совсем было помирал, честно скажу – очень хотелось умереть. Однако прекрасные хирурги в городе Чусовом, куда меня в последний момент отвезли в больницу (они не любят, когда умирают на зоне), меня буквально вытащили с того света. Когда я их спросил, жить мне или не жить, доктор сказал: «Фифти-фифти». Я думаю, если бы я сделал для себя выбор в сторону другого «фифти», то спокойно бы уплыл в небытие. Но мне было жалко родителей, я стал помогать докторам меня вытягивать обратно, и вот я здесь. Перитонит же случился потому, что на 36-й зоне был молодой врач-садист, дантист по специальности. Зубы он не лечил, объясняя, что у него нет «мануальных навыков», а прочие болезни – потому что он дантист. Из больницы – я едва мог ходить – меня перекинули на другую политическую зону в тех же краях – 35-ю, так как там была «больничка». Врач был тоже молодой – кавказец, видимо, попавший туда по распределению и еще не «скурвившийся». Посмотрев меня по прибытии и увидев мой изрезанный живот, он спросил: «Шрамы стягивать будем?» Я мгновенно сообразил, что тогда они заживут быстрее, и ответил: «Давайте предоставим природе». Благодаря этому я провалялся в больничке целый месяц, сочинил там поэму «Au retour de l’au-delà» [ «По возвращении с того света»]. После этого меня почему-то оставили на 35-й зоне, где условия были чуть получше, режим чуть помягче, а стало быть, публика чуть послабее. Там я доработал, также в кочегарке, до освобождения. Эта зона, уже как уголовная, продолжает действовать и сегодня, и впоследствии мы вместе с Иваном Ковалевым ее посетили. При зоне отставной вертухай собственными силами создал музейчик, посвященный ментовской доблести. Теперь, к сожалению, на то же самое ориентирован новый музей на месте 36-й зоны, заменивший музей политических репрессий.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: