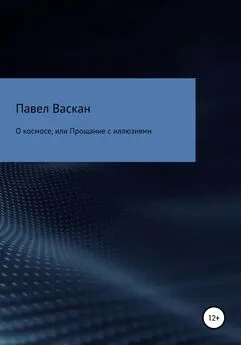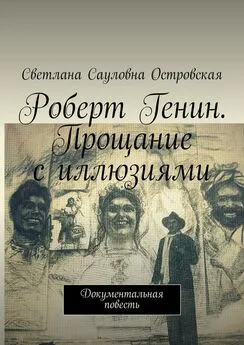Владимир Познер - Прощание с иллюзиями. «Поедемте в Англию»
- Название:Прощание с иллюзиями. «Поедемте в Англию»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «АСТ»
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-091890-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Познер - Прощание с иллюзиями. «Поедемте в Англию» краткое содержание
Прощание с иллюзиями. «Поедемте в Англию» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Отец рассказывал мне, что после революции была объявлена смертельная война антисемитизму, в связи с чем ходил такой анекдот: люди, опасаясь быть обвиненными в антисемитизме, вместо «Я поджидаю трамвай» говорили «Я подъевреиваю трамвай».
В послевоенные годы Сталин сознательно и расчетливо подлил масла в огонь антисемитизма, развязав кампанию против «безродных космополитов» и подготовив так называемое «Дело врачей», которое должно было стать, как я писал раньше, прелюдией к массовой депортации евреев в Сибирь.
После смерти «вождя» репрессий поубавилось, но положение евреев не улучшилось. Можно даже сказать, что оно ухудшилось – но не сразу. Между 1953 и 1972 годами антисемитизм существовал на относительно низком уровне, нечасто звучали рассказы о том, как человек пострадал именно за свое еврейство. Всем было, конечно, известно, что для евреев закрыты двери некоторых учреждений – например Московского государственного института международных отношений, Министерства иностранных дел. Но после приезда в Москву президента США Ричарда Никсона весной 1972 года и подписания ряда документов и соглашений, в том числе и о праве советских евреев эмигрировать в Израиль, положение изменилось к худшему. Многие на Западе не находят этому объяснения. Но тут вновь возникает вопрос своей и чужой «колокольни». Скажем, для американца эмиграция – это совершенно нормальный и естественный процесс. В конце концов, Америка стала Америкой благодаря эмиграции. Во многих странах Европы – Италии, Ирландии, Германии – эмиграция рассматривается как нормальное стремление человека лучше устроить свою жизнь. Иногда это связано с драматическими обстоятельствами, такими, например, как картофельный голод в Ирландии, нищета в Италии, преследования на политической или религиозной почве, как в Германии или во Франции, но это всегда воспринимается как нечто нормальное. В России, особенно в советское время, все по-другому.
Вспомним дореволюционную эмиграцию из Российской империи. Кто уезжал? В основном евреи, бежавшие от погромов в девяностых годах девятнадцатого века и в начале двадцатого. «Скатертью дорожка» – такова была реакция большинства остающихся. За революцией 1917 года и приходом большевиков к власти последовал первый исход из страны собственно русских. Они бежали по политическим причинам, часто это были либо активные противники новой власти – люди, которые ей сопротивлялись, воевали в составе белых армий, либо пассивные ее противники – те, кто рассчитывал на скорый ее провал и уповал на поражение большевиков. Словом, это были те, кто не принял революцию. Для тех же, кто оставался в стране, бежавшие являлись врагами, предателями. Таким образом, формула «эмигрант = предатель» стала аксиомой национального менталитета.
Вспомним вторую волну эмиграции из СССР. Она совпала с окончанием Второй мировой войны, и до сих пор крайне неохотно признается, что огромное количество советских граждан бежали вместе с отступавшими гитлеровскими войсками. Речь не только о тех, кто сотрудничал с немцами, хотя таких было немало, речь и о тех, чьих родственников расстреляли, сослали, посадили во время сталинских репрессий, о тех, кто стал противником системы, прозрел, кто не успел выскочить до того, как двери захлопнулись в середине двадцатых годов. Надо ли удивляться тому, что эта, вторая, волна могла только закрепить сугубо негативное отношение советских людей к «эмигранту»?
Третья волна – последствие так называемой разрядки напряженности, некоторого улучшения отношений между СССР и США, что, безусловно, было встречено советским народом с воодушевлением. Но такое изменение отношений мало что изменило в оценке народом эмигранта, хотя надо бы сказать о некоторых тонкостях. Эмиграционная политика базировалась на концепции возвращения на историческую родину. Таким образом, этнические меньшинства, чьи предки когда-то иммигрировали в Россию или в СССР, могли воспользоваться этим для возвращения на эту самую историческую родину. В частности, это касалось испанцев, греков, болгар, немцев, никогда не отличавшихся особенно большой численностью и заметностью в стране. Возвращение испанцев, бежавших от Франко, возвращение греков, бежавших от черных полковников, возвращение немцев, частью бежавших от Гитлера, частью приехавших в Россию еще при Екатерине II и Петре I, ни у кого особых чувств не вызывало. Другое дело – отъезд евреев в Израиль. Именно они составляли большинство в этой третьей волне, именно они были наиболее заметной своей частью, именно их население рассматривало как «своих» – пусть второго сорта, ущербных, но своих, в отличие от испанцев, греков и немцев. И по мере того как они уезжали во все больших количествах, возникла новая аксиома: эмигрант = предатель = еврей.
Реакция на еврейскую эмиграцию была бурной и эмоциональной. Она сфокусировала, словно линза, все антисемитские предрассудки и создала такую обстановку, что многие евреи, которые колебались, уезжать им или нет, и даже некоторые их тех, кто и не помышлял уезжать, решились эмигрировать. По мере увеличения потока еврейской эмиграции в начале и середине семидесятых годов враждебная атмосфера обрела конкретные очертания и выражение. Высшие учебные заведения перестали принимать евреев, им все чаще отказывали в приеме на работу. Откровенные антисемиты, раньше действовавшие с некоторой оглядкой, совершенно распоясались.

Перевожу слова Председателя Гостелерадио СССР Сергея Георгиевича Лапина. 1979 г.
Например, ярым антисемитом был председатель Гостелерадио СССР Сергей Георгиевич Лапин. Мне в красках рассказывали о том, что он, потребовав поименный список членов Большого симфонического оркестра Гостелерадио, лично вычеркивал из него еврейские фамилии – количество которых было велико (как, впрочем, и во всех сильнейших симфонических оркестрах мира). Многих сотрудников комитета, работавших в разных редакциях и подразделениях, вынудили уйти – такова была обстановка.
Если бы меня спросили, был ли я лично свидетелем того, о чем пишу, я должен был бы ответить отрицательно. Игорь Лобанов, начальник Главного управления кадров комитета, с которым я не только был знаком, а имел добрые отношения, никогда ни намеком не дал мне понять, будто получил указание не нанимать на работу евреев. Не видел я и того, как Лапин вычеркивал из списка оркестрантов. Но это были не слухи, а совершенно точная информация, исходящая от людей, которые знали все, что происходило. Интересная деталь: никто, в том числе я, не сомневался в правдивости этой информации, но никто, во всяком случае я, не стремился проверить ее, своими глазами убедиться в ее истинности. Почему? Думаю, ради самосохранения. Ведь если бы я увидел этот пресловутый список с вычеркнутыми синим лапинским карандашом фамилиями, если бы начальник Управления кадров подтвердил, что есть указание не брать на работу евреев, мне пришлось бы предпринять какие-то шаги, в результате которых я несомненно потерял бы работу. Шкурный интерес взял верх.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
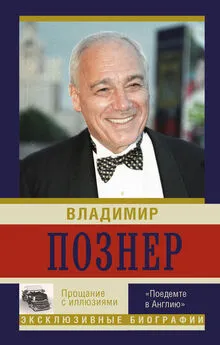
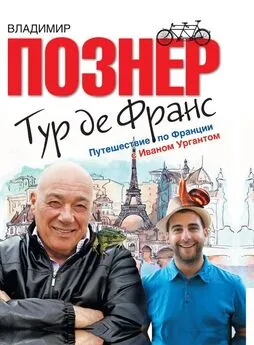
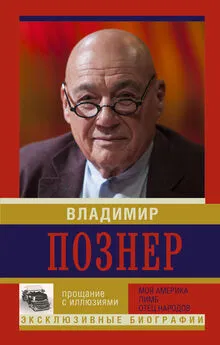
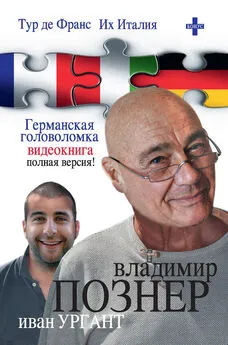
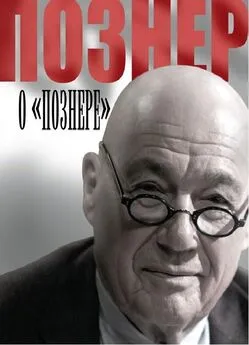
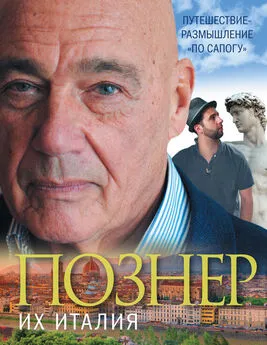
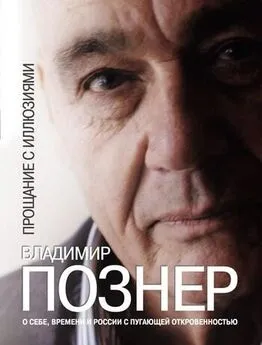
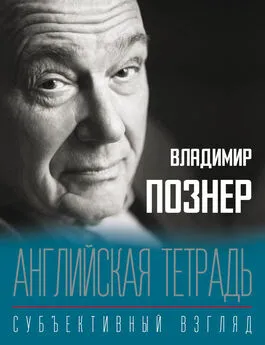
![Павел Васкан - О космосе, или Прощание с иллюзиями [litres самиздат]](/books/1149509/pavel-vaskan-o-kosmose-ili-prochanie-s-illyuziyami.webp)