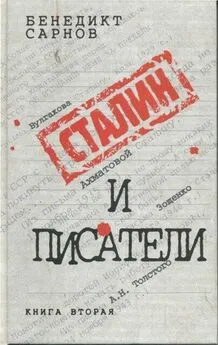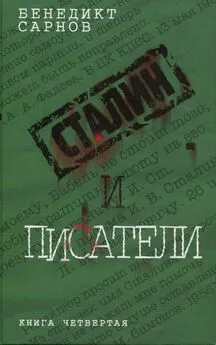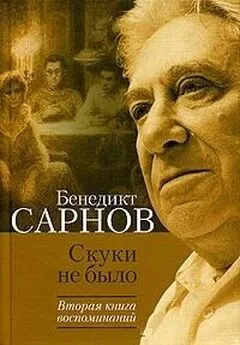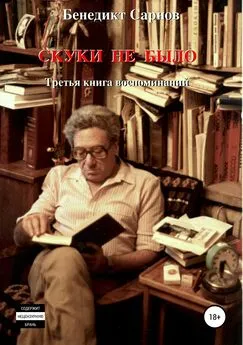Бенедикт Сарнов - Скуки не было. Первая книга воспоминаний
- Название:Скуки не было. Первая книга воспоминаний
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Аграф
- Год:2004
- Город:Москва
- ISBN:5-7784-0292-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Бенедикт Сарнов - Скуки не было. Первая книга воспоминаний краткое содержание
Назвав так свою книгу, автор обозначил не только тему и сюжет ее, но и свой подход, свой ключ к осознанию и освещению описываемых фактов и переживаемых событий.
Начало первой книги воспоминаний Б. Сарнова можно датировать 1937 годом (автору десять лет), а конец ее 1953-м (смерть Сталина). Во второй книге, работу над которой автор сейчас заканчивает, повествование будет доведено до наших дней.
Скуки не было. Первая книга воспоминаний - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Потрясенные (не слишком, но все же) этим предательством, мы слегка посудачили на тему: «во что превратился Сережа». Ведь мы знали его совсем другим.
Совсем еще недавно по Москве ходила шуточная (рукописная) поэма, героем которой был молодой поэт, приехавший из провинции завоевывать столицу, и были там — в перечне его первых столичных успехов — такие строчки:
И впервые тогда Наровчатов
Попросил у тебя пять рублей.
Кто бы мог подумать, что Сережа Наровчатов, этот «гуляка праздный», этот «Моцарт», вдруг так резко изменит свой, как теперь говорят, имидж и надуется начальственной спесью.
Но тут я вспомнил: когда я учился на первом курсе Литинстатута, старшекурсники со смехом рассказывали, что Сережа Наровчатов, взятый на работу в ЦК ВЛКСМ (инструктором), с важностью говорил, что по питанию они (инструкторы) «приравнены к секретарям ЦК». Поэтому, когда — через год — отменили карточную систему, какой-то институтский остряк схохмил, что теперь нас всех «приравняли к Наровчатову».
Эти мои воспоминания привели нас к мысли, что поразившая нас наровчатовская метаморфоза была не такой уж неожиданной. «Меньшевистское прошлое Троцкого, — резюмировал кто-то из нас расхожей ленинской цитатой, — не случайно».
Сам Наровчатов знал за собой этот грех и однажды сделал даже попытку найти его истоки:
Много злата получив в дорогу,
Я бесценный разменял металл,
Мало дал я Дьяволу и Богу,
Слишком много Кесарю отдал.
Потому что зло и окаянно
Я сумы боялся и тюрьмы.
Откровенья помня Иоанна,
Жил я по Евангелью Фомы.
А ведь в то время, когда были написаны эти строки (где-то между 1954-м и 1956-м), он еще далеко не все (да, в сущности, и не так уж много) «отдал Кесарю».
Самое страшное с ним случилось позже.
Как пел в одной из своих песен Александр Галич:
Уходят, уходят, уходят друзья,
Одни в никуда, а другие в князья…
В конце 60-х — начале 70-х Наровчатов уже навсегда ушел «в князья».
Но в тот день, о котором я рассказываю, ко мне в «Литгазету» приходил не князь, а тот самый Сережа Наровчатов, которого за несколько месяцев до этого визита притащил к нам Эмка Мандель и чуть ли не силой заставил прочесть только что им написанное замечательное стихотворение «Пес, девчонка и поэт», о котором тогда даже и подумать нельзя было, что его удастся напечатать.
И вот он сидит передо мной, никакой не «князь» и даже не Сергей Сергеевич, а просто Сережа, не имеющий надо мной никакой власти. И сурово, требовательно спрашивает:
— Ну, что там у вас со стихами Лили Наппельбаум? Долго еще вы собираетесь их мариновать?
И я смущен и растерян куда больше, чем если бы ко мне с этим вопросом обратилось самое высокое мое начальство.
Я мнусь, оправдываюсь. И среди разных других сомнительных оправданий произношу такую фразу:
— Понимаете, Сережа, уж очень у нее фамилия нехорошая…
— Фамилия у нее, — отвечает Сережа, — как раз очень хорошая.
И он рассказывает мне об отце Лили — замечательном фотографе-художнике Моисее Соломоновиче Наппельбауме. Вспоминает знаменитые его работы — портреты Пастернака, Мандельштама, Ахматовой, Мейерхольда. Сообщает даже такой поразительный факт: портрет Блока работы Наппельбаума был — можете себе представить? — выставлен среди икон на иконостасе храма, настоятелем которого был основатель «Живой церкви» митрополит Александр Введенский.
В начале 20-х в доме Наппельбаумов был знаменитый на весь Петроград литературный салон, хозяйками которого были старшие сестры Лили — Ида и Фредерика. Весь цвет тогдашнего литературного Петербурга бывал на этих «понедельниках у Наппельбаумов», как их тогда называли: Сологуб, Кузмин, Ахматова, Ходасевич. Там впервые прочел свои баллады молодой, никому еще не известный Николай Тихонов, читал ранние свои стихи приезжавший в Питер из Москвы Борис Пастернак.
Старик Наппельбаум даже издал то ли журнал, то ли альманах — под названием «Город». Предполагалось, что это будет постоянный периодический орган наппельбаумовского салона. Но вышел только один-единственный номер. Там были стихи молодого Тихонова, мало кому известного Константина Вагинова, трагедия Льва Лунца «Бертран де Борн». Да-да, того самого Льва Лунца, который написал манифест «Серапионов» и которого злобно поминал Жданов в том знаменитом своем докладе.
Сейчас этот альманах — величайшая библиографическая редкость. Но у него, у Сережи, в его библиотеке, он есть.
Помимо этого альманаха старик издал две книжечки стихов своих старших дочерей — Иды и Фредерики. Обе они были любимыми ученицами Гумилева. Несколько строк из стихотворения Иды, посвященного памяти погибшего учителя, Сережа тогда мне прочел. Воспроизвожу их так, как они мне запомнились:
Ты правил сурово, надменно и прямо,
Твой вздох — это буря, твой голос — гроза.
Пусть запахом меда пропахнет та яма,
В которой зарыты косые глаза.
— Да, старшие Лилины сестры были талантливы, — сказал Сережа. — Но и младшая — Лиля — тоже не новичок в поэзии: стихи пишет всю жизнь. И стихи хорошие, ведь правда же? Вот ведь вы же сами сказали, что индивидуальные, ни на кого не похожие…
Смущенно слушал я этот долгий Сережин монолог (лучше сказать — выговор). Несколько раз пытался прервать его, объяснить, что назвав фамилию «Наппельбаум» нехорошей, я имел в виду всего лишь нынешнюю обстановку, отношение моего начальства к еврейским фамилиям, все эти гнусные «правила игры», по которым мы живем и с которыми, увы, вынуждены считаться.
Но Сережа в том же жестком и безапелляционном тоне дал мне понять, что ни сам не собирается считаться с этими правилами, ни мне не советует.
И тут — кажется, впервые за все время моей работы в газете, — мне стало стыдно.
Стыд этот был мимолетный: он быстро улетучился, растворился. Я, помнится, даже вспоминал потом этот наш разговор с некоторой обидой на Наровчатова: хорошо, мол, ему из себя целку строить. Он ведь ни за что не отвечает — пришел, ушел… А я день за днем варюсь в этом котле, дышу его ядовитыми испарениями, вот и принюхался к этому смрадному вареву…
Самое интересное, что в том моем разговоре с Сережей Наровчатовым мне даже в голову не пришло сослаться на мое собственное положение, которое, в отличие от Сережиного, было немногим лучше, чем положение Лили Наппельбаум.
Меня, правда, в моей родной газете печатали легко и свободно: никакой дискриминации, никакого ущемления моих прав и возможностей, связанных с моей еврейской национальностью, я не ощущал. И было это, я думаю, не только потому, что я был «в штате» (хотя это тоже имело значение, и немалое).
Я не испытывал в этом смысле особых трудностей скорее всего потому, что натуральная моя фамилия была не кричаще еврейской. Скорее, даже нейтральной. Будь я Финкельштейном или Рабиновичем, вопрос о псевдониме наверняка бы встал. Пришлось же моему другу Лазарю Шинделю, начавшему свою работу в газете гораздо раньше, чем я, стать Лазаревым. И это несмотря на то, что, в отличие от меня, он был участником (даже инвалидом) войны и членом партии. (Эти его анкетные данные тоже ведь нельзя было всякий раз приводить на газетной полосе, печатая очередную его статью.)
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: