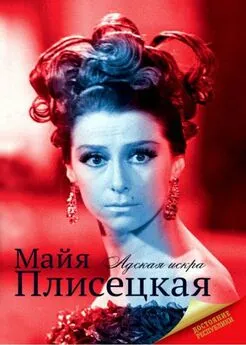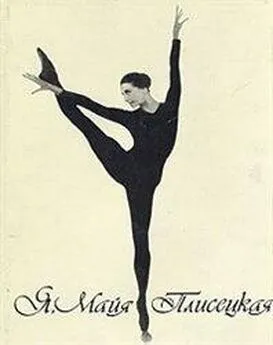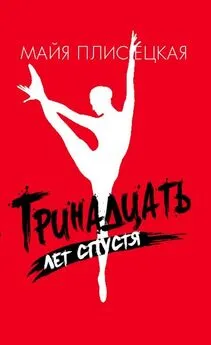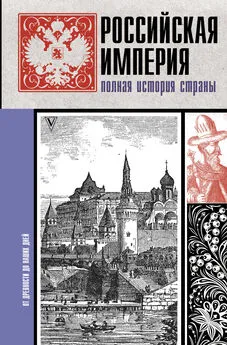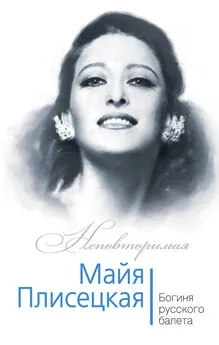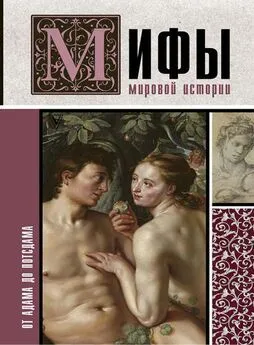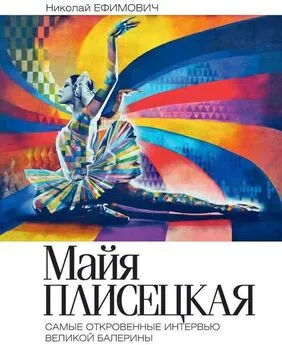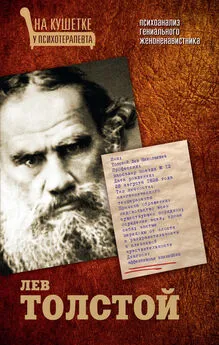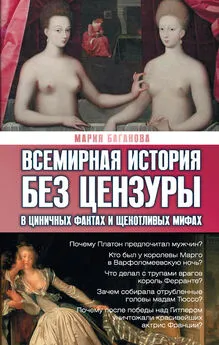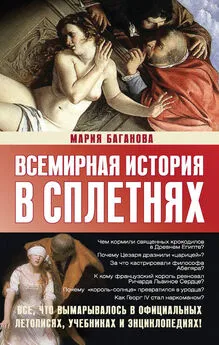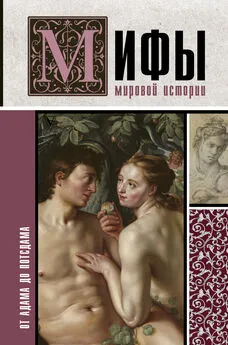Мария Баганова - Майя Плисецкая
- Название:Майя Плисецкая
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2014
- ISBN:978-5-17-082634-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мария Баганова - Майя Плисецкая краткое содержание
Вот уже более полувека она является музой и женой одного из самых талантливых композиторов современности — Родиона Щедрина. Ее творчеством вдохновлялся модельер Пьер Карден, ей посвящал стихи поэт Андрей Вознесенский, назвавший балерину «адской искрой»; балетмейстер Морис Бежар именовал ее «гением метаморфоз»; художник Марк Шагал зарисовывал балетные позы Плисецкой, чтобы позже использовать ее дикую грацию для создания шедевра.
Майя Плисецкая - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Репетиции в Большом начались с «белого» адажио, то есть с партии Одетты. Эта часть получилась быстро, технически она не очень сложная, и тем более ранее Плисецкая уже танцевала лебедей — подруг Одетты. Финал акта — уход Одетты — она просто сымпровизировала, изобразив, как лебедь уплывает вдаль. Руки ее повторяли движения речных волн. Кто-то из присутствовавших артистов негромко, но слышно сказал вслух: «С этого ухода Плисецкая соберет урожай.» Голос был женский. «Пророчица» оказалась права: потом на этом месте каждый раз раздавались аплодисменты.
Но вот «черный» акт балета, партия Одилии, шел не так гладко. В балете есть очень сложное место, придуманное итальянкой Пьериной Леньяни. Она впервые в России — не в «Лебедином», а в «Золушке» — прокрутила 32 фуэте. Наблюдавшие за иностранкой из-за кулис петербургские артисты рты раскрыли: этого трюка тогда в России еще не видели.
Петипа обратил внимание на новинку и пристроил «трюк» в самый конец па-де-де Одиллии и Принца, подобрав для этого подходящую музыку. Но разумеется, Пьерина Леньяни тщательно хранила секрет своего «ноу-хау». Русские балерины, пытавшиеся повторить трюк, никак не могли понять, как именно делает свои повороты итальянка и как ей удается удержаться на одном месте сцены — «пятачке» диаметром полметра. На классных занятиях все старались, разогревшись, исполнить хоть три-четыре фуэте, некоторые дотягивали до восьми — и падали, теряли «точку». Танцовщицы знают, что при вращении необходимо фиксировать взгляд на своем отражении в зеркале репетиционного зала или на воображаемой «точке» в темноте зрительного, для чего следует не поворачивать голову вместе с корпусом, а, задержав ее насколько возможно, затем быстро повернуть, опередив вращение тела. По театральной легенде, повторить тот трюк получилось у одной лишь Агриппины Вагановой. Выйдя на середину, став в четвертую позицию, прошепелявя при этом себе под нос «она делала так», с ходу, без срывов коренастая русская девушка прокрутила все тридцать два. Один к одному. Но Ваганова примой не была. А честолюбивые русские солистки потянулись на выучку к Энрико Чеккетти: этот миланский виртуоз осел в России после успешных гастролей, стал первым танцовщиком, балетмейстером и репетитором Мариинского театра. Совместные усилия педагога и учениц принесли плоды: секреты итальянки удалось раскрыть, и фуэте стало непременной принадлежностью классических па-де-де. Первой русской балериной, показавшей публике свои 32 фуэте, была главная звезда Мариинки Матильда Кшесинская. Но мало того: переждав овации публики, балерина повторила их на бис. Газеты наперебой расхваливали ее выступления. Матильда была яркой, выразительной, очень техничной. Работоспособность у нее была необыкновенная. Утром она приезжала в репетиционный зал и подолгу занималась, вечером — спектакль, затем окруженная поклонниками прима уезжала кутить почти до утра, а на следующее утро снова появлялась в репетиционном зале, свежая и полная сил. Но не только ее балетные успехи, даже имя ее было запрещено упоминать в те годы в сталинской России, ведь, подумать только, Кшесинская была фавориткой самого Николая Кровавого!
Конечно, молодой Плисецкой было трудно соперничать с этими легендарными исполнительницами. Позже она заменила то проклятое фуэте, которое у нее не было стабильным, на стремительный круг. Но на прогоне и премьере фуэте получилось без задоринки, «на пятачке».
«Наверное, я танцевала «Лебединое озеро» несовершенно, — сказала однажды Майя Михайловна. — Были спектакли удавшиеся, были с огрехами. Но моя манера, принципы, кое-какие театральные новшества привились, утвердились. «Плисецкий стиль», могу сказать, пошел по миру. Со сцены, с экрана телевизора нет-нет да и увижу свое преломленное отражение — поникшие кисти, лебединые локти, вскинутая голова, брошенный назад корпус, оптимальность фиксированных поз. Я радуюсь этому. Я грущу.»
Однако она оказалась самым строгим своим критиком. Публика приняла ее Одетту-Одилию с восторгом. Газеты писали, что Плисецкая блистательно показала превращения, происходившие с ее героиней, то сбрасывая с себя колдовские чары, то снова становясь лебедем. Балерина постаралась переключить внимание аудитории с абстрактной техники на душу и пластику. Взгляды приковывались к рисунку лебединых рук, излому шеи; никто не замечал, что ее па-де-бурре не так уж совершенны. «Немало балерин «Гранд-опера» могли исполнить па-де-бурре отточеннее, с лучшим вытяжением подъемов, выворотнее, — признавала она. — А вот спеть руками и абрисом шеи тему Чайковского?..»
Та премьера, несмотря на дневное время, собрала чуть ли не всю театральную Москву. После оркестрового прогона поползла молва, что «Лебединое» Плисецкой удалось. В зале было много громких имен. Лавровскому работа тоже понравилась, и с его подачи спектакль стал самым популярным блюдом для важных зарубежных гостей. В «Лебедином озере» Плисецкую видели все главы иностранных государств, посещавшие Советский Союз. Гвоздем программы знакомства со страной было посещение Большого театра, на сцене которого господствовал балет «Лебединое озеро» с Майей Плисецкой в главной роли.
«Для гостей я натанцевалась всласть, — говорила Плисецкая. — Кого только не угощали «Лебединым» со мною! Маршала Тито, Джавахарлала Неру и Индиру Ганди, иранского шаха Пехлеви, американского генерала Джорджа Маршалла, египтянина Насера, короля Афганистана Мухаммеда Дауда, приконченного позднее, императора Эфиопии Селассие, сирийца Куатли, принца Камбоджи Сианука.»
Когда в Москву в очередной раз наведался Мао Цзэдун, Великий кормчий народов Востока, то вместо запланированного «Красного Мака» он тоже потребовал «Лебединое». Оказывается, для китайца «Красный мак» ассоциировался исключительно с наркотиком, а вовсе не с революцией!
Охрана в тот день была удесятерена. Особый пропуск, который успели отпечатать ретивые блюстители за ночь, проверялся у каждой без исключения двери. Его надо было держать при себе в лифе пачки на груди. Танцуя, Майя боялась: вдруг на шене или в прыжке пропуск выскользнет, а «ворошиловские стрелки» в ложах примут его за новейшее взрывное устройство и откроют по ней огонь. Но все прошло гладко. В конце спектакля растроганный Мао прислал исполнительнице гигантскую корзину белых гвоздик.
Было в ее жизни и несколько особых «Лебединых», запомнившихся. Так, в 1959 году в Пекине собрались все народные артисты СССР — из Большого и Кировского театров. Она танцевала «Лебединое», а дирижировал — Евгений Светланов. Репетиций никаких не было, но Светланов — не балетный дирижер и не был знаком со спецификой. «Мне-то темп не важен, я любой все равно поймаю. Но то, что сделал Светланов, превзошло все. Это был его диалог с Чайковским. Особенно я была потрясена в третьем акте, который начинается трубами, — выход Одиллии, пауза. И вдруг взрыв звуков в невероятном темпе. Но я успела. Это было эффектно.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: