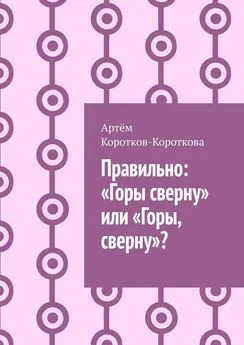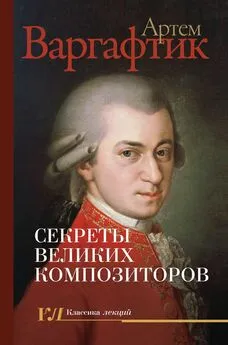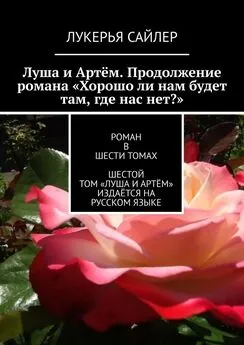Артём Варгафтик - Партитуры тоже не горят
- Название:Партитуры тоже не горят
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Классика-ХХI
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:5-89817-158-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Артём Варгафтик - Партитуры тоже не горят краткое содержание
В основе этих увлекательных рассказов — истории личных отношений, загадки подсознания великих музыкантов, секреты их пиар-компаний и маркетинговых технологий.
В компании с автором и его персонажами вы можете провести несколько весьма приятных — и полезных! — часов.
У героев этой книги есть, чему поучиться.
Партитуры тоже не горят - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Практически вся музыка Шопена может служить примером того, как слабость оборачивается силой в точке полной «беспомощности». Самое распространенное суждение на сей счет сводится к французскому слову fragile (хрупкий), которое знакомо каждому, кто хоть раз сдавал бьющиеся предметы в багаж. Это слово не сходило с уст публики, для которой Шопен играл на званых парижских вечерах, и было посмертно «узаконено» Францем Листом в 1851 году. Нежность и хрупкость шопеновской музыки описаны им как «прекрасные цветы на необычайно тонких стеблях». Тот же Лист чрезвычайно приохотил публику к небольшим, но обязательным дозам «поэтических истолкований» любого самого безобидного пустяка, написанного Шопеном на бумаге. Про финал Второй фортепианной сонаты (три страницы черных нот в темпе presto, идущие сразу за шлягером всех времен — Похоронным маршем, который каждый день повсеместно «терзают лабухи») он сказал, что это «пронизывающий холодный ветер, свищущий над могилой героя». А другой музыкант услышал здесь только «три страницы светской болтовни».
Пометки в нотных тетрадях и черновиках рукой самого Шопена иногда гораздо жёстче. Там упоминается меланхолия, которая делает его сухим и холодным, как камень. Когда к профессору Генриху Нейгаузу долго приставали поклонники с просьбой истолковать начало одного из шопеновских скерцо, он наконец не выдержал и невозмутимо объявил им, что тихий дважды повторяющийся пассаж в левой руке — это «…свиньи, хрюкающие в хлеву в жаркий летний денек». Поклонники надолго задумались и потом решили, что толкование гениально. Любимый ученик Нейгауза Святослав Рихтер был одним из немногих, кто верил только в одно толкование Шопена — буквоедское. Любить Шопена для него означало правильно и точно читать его знаки и указания. Может быть, поэтому Шопен у Рихтера так не похож на себя в сравнении с Шопеном, прочитанным другими глазами. Он острый, холодный и прозрачный, как разрезанное алмазом стекло, реалистичный, и неуравновешенный, как и записано нотами, и только в отдельные минуты мечтательный. Прочие свойства Рихтер намеренно прятал от слушателей, всегда готовых при первых звуках сонаты или баллады растечься по тарелке, как пломбир.
Фридерика Шопена любят по тысяче причин, каждая из них веская и уважительная. Раз он «поэт фортепиано», то стало быть, неустанно провоцирует сравнения со стихотворцами, причем обычно в духе Анны Ахматовой на тему: «Когда б вы знали, из какого сора растут цветы, не ведая стыда…» И если сложить все стихи, где упоминается даже вскользь имя Шопена, то действительно получается собирательный образ отменно приготовленного «безе», сладкое воздушное пирожное пониженной калорийности и повышенной духовности. Между тем Борис Пастернак, восхищавшийся тем, как его кумир в свои этюды вложил «живое чудо фольварков, парков, рощ, могил», заметил еще и другое. Он сказал, что Шопен не имел времени выдумывать свой собственный музыкальный язык, зато успел за 39 лет жизни высказать множество новых мыслей уже известным, старым фортепианным языком.
В самом деле, «поэт», не изобретающий новых слов, не нагружающий свой текст необычными конструкциями или придаточными предложениями, но при этом не скупящийся на музыкальные «комплименты», — просто «лапочка» и «душечка» для тех, кто его читает, слушает и «потребляет». С ним легко и просто, как с дамским угодником или опытным диск-жокеем. В его произведения как бы заложена некоторая лень и праздность адресата. У Шопена был совершенно конкретный «адресат», на две трети его «наследие» состоит из фоновой и развлекательной музыки для салонного употребления, но тут он неожиданно оказался «полупророком» массовой культуры и «попал в резонанс с чаяниями миллионов», о которых ему, вероятно, и думать-то было лень.
Любопытно, но многие выдающиеся пианисты сошлись на том, что Шопен настолько же требователен (если не сказать — придирчив) к игроку за роялем, насколько либерален и нетребователен к уху своего слушателя. Он не изобрел ни одного нового гармонического хода или приема, не нашел ни одной новой формы, только иногда пользовался оборотами польских песен или танцев как вполне допустимой «каплей зарубежной экзотики». Все, что он сказал нового, укладывается в ясные гладкие формулировки, в запоминающийся и милый ритм, отчетливые периоды, вовсе не обязательно квадратные, но простые и понятные. Пассажи, красоты фортепианного письма, «ветвистые лопухи» разложенных аккордов, «дышащая» фактура, легкая бисерная техника или красочные блестки непринужденно-уместных мелочей ясности и добротности «каркаса» ничуть не мешают, даже если какой-нибудь горе-пианист сомнет или переврет половину этой обертки от избытка чувств…
Настоящий Шопен — в том, чем и как начинены его ноктюрны или экспромты, а не в оболочке. При этом аналитики отмечают, что с точки зрения «музыкальной анатомии» любую страницу Шопена анализировать как раз очень легко и не очень интересно. Так как при этом все обаяние куда-то уходит, а остаются лишь хорошо продуманные структуры речи…
Настоящий Шопен — в странном, но очевидном факте полной авторской беспомощности вне своей узкой области. У него в послужном списке только одно Трио, три вещи с участием виолончели (и то — как съязвил один московский профессор, виолончель всегда присутствует у Шопена в нотах в качестве свидетеля), несколько польских песен (которые получили в истории штамп «Рекомендовано к прослушиванию» только после того, как Лист обработал их для рояля) и два с половиной фортепианных концерта с оркестром. Остальное — музыка для одного фортепиано написанная в расчете или на собственное исполнение, или на учеников разной степени одаренности и сообразительности. Везде, где роялю аккомпанирует оркестр, знатоки не устают удивляться тому, как находчивый, умный, обходительный, страстный персонаж-солист может на равных состязаться с таким агрессивным и недалеким «спарринг-партнером». И добавляют, что сам Шопен в любом случае не мог написать оркестровые связки и склейки к своим концертам: просто он не учился этому «низкому ремеслу» и не владел им. А некий затерявшийся в истории парижский аранжировщик с умеренными расценками за лист партитуры даже если и знал, что обслуживает гения, оркеструя его концерты, все равно работал не лучше, чем умел.
И все же… Сколько ушей, столько Шопенов. Для одних он сладкозвучный певец, «Орфей» и прочее, что бескрайняя любовь обязывает говорить о несравненном кумире. Некий молодой лауреат очередного Шопеновского конкурса всерьез и с ответственным видом говорит, что, играя любую его вещь, он преклоняется даже не перед каждым шедевром в отдельности, а перед человеком, который с определенного момента своей жизни, лет примерно с двадцати, стал писать вообще одни шедевры и ничего другого. Впрочем, как известно, у отличников «преклоняться» — это профессиональный навык, а не что-то другое… Для иных Шопен, напротив, страдалец, ипохондрик, высокохудожественный вариант «нытика», почти что мизантропа, которому не удается этого скрыть. Особого рода «соловей» из иронического рассказа Зощенко («отчего, мол, соловей поет? — да жрать хочет, оттого и поет…») — замученный бесконечными уроками и открытой формой туберкулеза вежливый человек, чьи жалобы на жизнь и слезы откристаллизовались в нескольких чистейших капельках музыки. О таком — более реальном — Шопене (к тому же и вправду черном меланхолике) хорошо говорит один безымянный свидетель, который наблюдал, как на обеде в Париже хозяин дома привел представить гостям своего пятилетнего сынишку. И Шопен с вымученной улыбкой говорил соседу по столу, что мальчишка такой веселый, розовый и теплый, а он сам вынужден надевать две пары кальсон в теплую погоду, потому что ему все время зябко и не по себе…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: