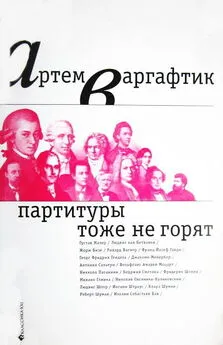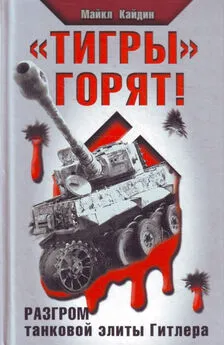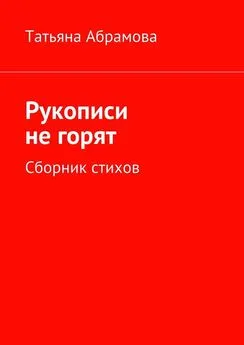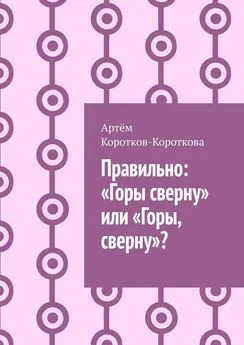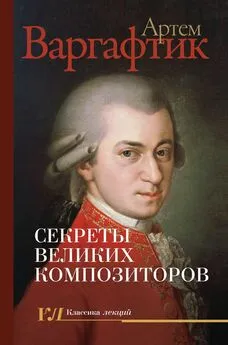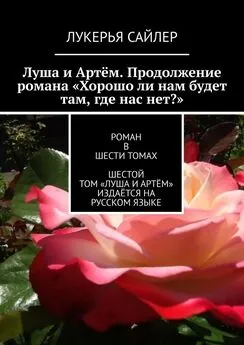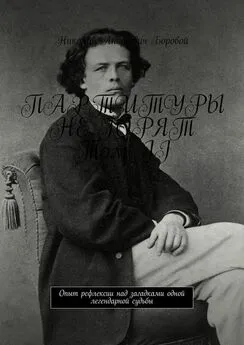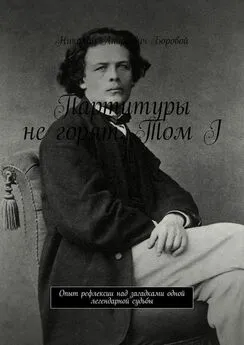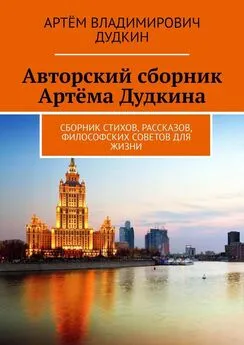Артём Варгафтик - Партитуры тоже не горят
- Название:Партитуры тоже не горят
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Классика-ХХI
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:5-89817-158-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Артём Варгафтик - Партитуры тоже не горят краткое содержание
В основе этих увлекательных рассказов — истории личных отношений, загадки подсознания великих музыкантов, секреты их пиар-компаний и маркетинговых технологий.
В компании с автором и его персонажами вы можете провести несколько весьма приятных — и полезных! — часов.
У героев этой книги есть, чему поучиться.
Партитуры тоже не горят - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В Польше, на географической родине, похоронено шопеновское сердце, в Париже — тело. В своем Штутгартском дневнике 1831 года Фридерик Шопен пишет о том ужасе, какой у него вызвало наведение русскими войсками порядка в польском крае: «…Боже, есть ли Ты вообще? Да, Ты есть, и Ты не мстишь! Что, москали совершили еще недостаточно злодеяний? Может, мои сестры, мой отец стали жертвами москальской солдатни, может, Ты и сам москаль?..» Как это согласуется с нежнейшими и приятнейшими фортепианными миниатюрами? Ответ, скорее всего, в том самом учебнике музыкальной психологии, где описан темперамент меланхолика. Среди жертв польского восстания не было родственников Шопена. Вся семья его отца (учителя французского языка) счастливо избежала погромов и успела добраться до Парижа.
Процитируем несколько строк из Авроры Дюдеван, писавшей под мужским псевдонимом Жорж Санд. Будучи для Фридерика Шопена «музой», энергетическим вампиром, любовницей, «классной дамой», доброй феей и «мегерой» в одном лице, она могла наблюдать куда больше того, чем записала в своих дневниках на острове Майорка. «Он на целые дни запирался в своей комнате, плакал, бегал взад и вперед, ломал перья, сотни раз повторял один и тот же такт… Вот так он мог потратить шесть недель на одну страницу — чтобы, в конце концов, записать ее в том же виде, в каком наскоро набросал ее в первый день».
Вся музыка Шопена изначально рассчитана на то, чтобы нравиться, — и это совершенно нормально. Шопену не удалось попасть в «башню из слоновой кости», где можно было бы спрятаться от вкусов, эмоций и пожеланий «трудящихся» и с удовольствием их игнорировать. Но парадокс в том, что Шопен изначально элитарен, он никогда не был и не будет автором, который отвечает на все вопросы. Гектор Берлиоз не мог прийти в себя от того, как «молоточки едва касаются струн, когда Шопен играет на пределе пиано, будто это концерт фей и эльфов», а изобретатель жанра ноктюрна и даже немного учитель Шопена Джон Фильд считал все это «талантом для больничной палаты». Феликс Мендельсон находил, что сентиментальность его мазурок недостойна культурного человека и музыканта. Понятие «культурного человека», видимо, с тех пор сильно расширилось, но осталась уязвимость Фридерика Шопена как некоего «Пьеро поневоле», персонажа, который вместо того, чтобы скрывать свою слабость и меланхолию, делает их предметом искусства. И даже слишком красивым предметом…
«Поэт» он только отчасти, местами, хотя этот ярлык теперь уже никто не сможет отклеить от его фрака. В глазах наблюдателей и потребителей музыки своего времени Шопен — самый лучший вариант «тапера и тренера» сразу. Шлягерные и похожие на шлягеры вальсы, мазурки и полонезы не были «художественной условностью», а использовались по прямому назначению с большим размахом. Их проверяли на удобство и долговечность тысячи ног, покуда танцы не вышли из употребления и моды, переехав плавно в салоны, а много позже в филармонии. Хорошо изданные этюды Шопена в наборе из 24 штук тоже всегда годились лучше прочих и годятся поныне: а) как тесты (обязательная программа) либо б) превосходный материал для учебного показательного растерзания музыки и в) для «профессионального натаскивания» пианистов всех возрастов на конкретные навыки: беглость, скорострельность, меткость, ловкость в жонглировании быстрыми арпеджио. А лишь потом — умение плавно вести мелодическую линию, выделяя ее, как тропинку, из зарослей шопеновской фактуры, которая в медленных этюдах на «певучесть» нарочно написана густо, не подстрижена и не прорежена, как у классиков. Фокус лишь в том, что другие фортепианные образцы «таперского» или «тренерского» искусства обычно выкидывают в корзину для бумаг после того, как они сослужат свою службу, а грустные и красивые сонаты, полонезы, этюды, вальсы etc. Шопена спокойно стоят на полке и ждут следующих пользователей.
Михаил Глинка
Турист из России

Имя нашего героя служит для многих паролем, пропуском в мир истинных музыкальных ценностей, своего рода тестом на «свой — чужой». Им до сих пор клянутся в любви к России и русской музыке. Его изречения, в том числе и вымышленные, а также его не всегда узнаваемые портреты украшают стены очень многих музыкальных учреждений в России — по крайней мере, в течение последних полутораста лет. Это Михаил Иванович Глинка, основоположник русской классической музыки.
Однако именно эта тяжкая работа (которую для Глинки придумали задним числом и задним же числом записали во все учебники) во многом испортила его мировую музыкальную репутацию за пределами России. Испортила в силу того простого факта, что отечественная культура пока так и не смогла мотивировать свой трепетный пафос по сему поводу и подтвердить его какими-либо объективными данными, которые убедили бы остальной мир в необходимости любить Глинку так же сильно и беззаветно, как это принято у российских почвенников.
А чем на самом деле был занят в свободное от этой вымышленной работы время Михаил Иванович Глинка (к тому же находясь вне пределов России), мы и проследим.
Итак, место действия — город Мадрид, время — 1845 год. Сейчас здесь появится господин Глинка (он же дон Мигель), но не как основоположник русской классической музыки, а как частное лицо. В Испании его никто не знает, у него здесь нет никаких дел, приглашений, запланированных встреч, ни концертов, ни гастролей, ни мастер-классов — короче говоря, он обыкновенный турист. Или почти обыкновенный…
Основная на тот момент работа, по которой Глинку знают в России, уже давно выполнена. Эта партитура, как известно, называется вовсе не Иван Сусанин, а все-таки Жизнь за царя — и это первый настоящий русский «режимный» шлягер. До конца царствования династии Романовых эта опера будет исполняться во все «царские дни» (и в Москве, и в Петербурге) с непременным триумфальным успехом. Примерно такая же судьба постигнет ее и после крушения империи — правда, с сильно измененным текстом и сюжетом: поиски поляками дороги на Москву в глухих костромских лесах вызывали недоумение у нескольких поколений советских слушателей, но Глинка в этом не виноват. Он уже сочинил те восемь тактов, за которые Чайковский был готов произвести Глинку в гении, — речь шла, разумеется, о первом «квадрате» финального хора «Славься, славься русский царь! Богом нам данный наш царь-государь!» Более того, Глинка уже и Руслана и Людмилу сочинил. Но в паспорте этого не напишешь…
В день пересечения испанской границы в мае 1845 года (по старому стилю) Глинке исполнился 41 год. Так совпало — день в день. И вроде бы — по всем понятиям, в том числе и самым патриархальным, «домостроевским» — Михаил Иванович уже вполне взрослый и самостоятельный человек. Однако в своих Записках Глинка пишет, что ему стоило очень большого труда и очень большого времени получить разрешение у своей матушки на эту поездку. (Как тому моряку в сказке Киплинга, который болтал ногами в воде только потому, что его мама разрешала ему болтать ногами в воде.) А поехал Глинка в Испанию по примеру Франца Листа — прославленного виртуоза, который в эту страну недавно предпринял концертное путешествие и ему здесь страшно понравилось.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: