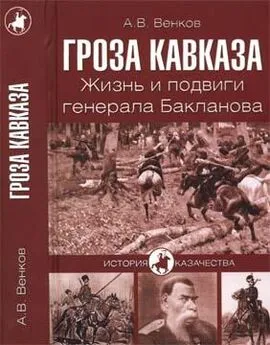Андрей Кручинин - Адмирал Колчак. Жизнь, подвиг, память
- Название:Адмирал Колчак. Жизнь, подвиг, память
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ, Астрель
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-063753-9, 978-5-271-26057-5, 978-5-4215-0191-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Кручинин - Адмирал Колчак. Жизнь, подвиг, память краткое содержание
Адмирал Колчак. Жизнь, подвиг, память - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Более серьезную помощь оказали сухопутному фронту корабли Колчака в течение следующих недель, в тяжелой ситуации поддерживая его огнем своей артиллерии, имевшим поистине губительный характер. «Стрельба блестяща, все бежит, переносите огонь на заградительный, дороги залиты кровью», – эта телефонограмма командующего правофланговым отрядом приводилась мемуаристом-эмигрантом уже по памяти и вряд ли отличается текстуальной точностью, но общее настроение тех минут она должна передавать. «В конце концов за целый ряд подвигов, которые трудно было подвести под какие-либо статуты, Колчак по Высочайшему повелению, помимо Георгиевской Думы, был награжден орденом Св[ятого] Георгия», – пишет адмирал Тимирев, – и, по-видимому, действительно правильнее не связывать эту награду с какой-то одной операцией, а считать ее признанием заслуг Александра Васильевича за весь период осеннего возглавления Минной дивизии (заметим, что распоряжение Императора было сделано по докладу армейского командования, а не морского начальства Колчака).
Возвращение Колчака на штабную работу, последовавшее за выздоровлением адмирала Трухачева, оказалось непродолжительным: уже в декабре Трухачев получил новое назначение, и 19 декабря 1915 года Александр Васильевич вновь принял Минную дивизию – уже «действительным командиром», а не «исполняющим должность». «Редкое назначение приветствовалось столь единодушно всем флотом и даже обществом (морским, конечно), как назначение Колчака на Минную Дивизию. И надо сказать, что он вполне оправдал те надежды, которые на него возлагались: никогда миноносцы не работали так интенсивно и успешно, как при нем», – пишет Тимирев, вообще окружающий Колчака – командующего дивизией ореолом какого-то бога войны: «Он был создан для службы на миноносцах, это была его стихия… Его оперативные замыслы, связанные с миноносцами, всегда были неожиданны, смелы и рискованны, но в то же время ему всегда сопутствовало счастье; однако это не было слепое счастье, а своего рода предвидение, основанное на охотничьей верности глаза и привычке к успеху. Его молниеносные налеты на неприятельские транспорты в шведских водах, атаки на неприятельские миноносцы, самые смелые постановки мин под носом немцев можно было сравнить с лихими кавалерийскими набегами или атаками».
Темперамент Колчака был действительно «кавалерийским» – чего стоит хотя бы рассказ о том, как весной 1916 года он «проклинал лед», мешавший кораблям пройти в Рижский залив, а подчиненные собирались нарисовать шуточную картину: командующий дивизией бьет кулаком по льдине, «чтоб скорее таяла»; и все же написанные в таком тоне воспоминания как будто специально напрашиваются на обвинения в идеализации. Следует признать, что боевая работа Александра Васильевича во главе Минной дивизии и вправду далеко не всегда оценивалась столь же высоко. В частности, полным провалом Колчака иногда считают нападение на германский караван торговых судов у берегов Швеции ночью с 31 мая на 1 июня 1916 года – тот самый «молниеносный налет», который восхищал Тимирева.
Нейтральная Швеция на деле сочувствовала Германии, что находило отражение и в ее морской политике. «… Следуя шведскими береговыми водами, – вспоминал современник, – суда (немецкие транспорты. – А.К.) из глубины Ботнического залива до Готланда могли спускаться той полосой моря, где русские суда не имели права производить каких-либо операций. Да и немецкие военные суда не стеснялись, когда это было им удобно, двигаться территориальными водами Швеции». Добавим к этому прямые поставки шведами немцам железной руды, необходимой для военной промышленности, – и неудивительным окажется, что после получения по дипломатическим каналам разведывательных данных о предстоявшем движении каравана судов с рудой русское командование приняло решение об их «захвате или уничтожении». Командовать операцией должен был адмирал Трухачев, а Колчаку предстояло руководить действиями трех эскадренных миноносцев («Новик», «Победитель» и «Гром»).
В описании событий, разыгравшихся 31 мая, адмирал Тимирев расточает неумеренные восторги, приписывая Колчаку потопление «5 судов (из них два вспомогательных крейсера)», что не подтверждается германскими источниками (хотя шведская пресса как будто сообщала о чем-то подобном); отметим и сдержанность самого Александра Васильевича, который упоминал впоследствии лишь «экспедицию к шведским берегам для нападения на германский караван, кончившуюся затоплением вспомогательного крейсера противника». Сдержан и панегирист Колчака адмирал Смирнов: «… Рассеял пароходы и потопил одно из конвоирующих судов». Сегодняшние же историки выносят Колчаку-флотоводцу очередной приговор, с запозданием предписывая ему отсечь караван, недавно вышедший из Стокгольма, от шведских вод (что не было сделано) и упрекая командующего эсминцами в преждевременном «предупредительном выстреле впереди по курсу концевого судна», чем атака была лишена внезапности, а транспорты с рудой получили возможность «без потерь отойти в территориальные воды нейтрального королевства». После начала стычки Колчак, вдогонку обстреляв уходившие к берегу транспорты, которые выставили дымовую завесу, вступил в бой с конвоем, результатом чего и стало потопление одного из кораблей прикрытия (этот вооруженный пароход был принят за отставший транспорт).
Теоретическое «переигрывание» на географической карте былых сражений, впрочем, не представляется нам достаточно плодотворным методом; в перечне же возможных причин тех ошибок, которые допустил Колчак, помимо «недостатка боевого опыта» и даже «нежелания делить лавры победителя» с Трухачевым, казалось бы, следовало обратить внимание на еще одну, прямо указанную теми же авторами, – «опасение атаковать нейтральных шведов» – и непосредственную близость чужих территориальных вод (последнее обстоятельство упоминает в качестве фактора, усложнявшего обстановку, и адмирал Тимирев, хотя одновременно делает и весьма спорное утверждение о «темноте ночи» – на тех широтах майские ночи вовсе не так уж темны). И действительно, Александр Васильевич позднее признавался: «… Я, имея в виду возможность встречи со шведскими судами… решил пожертвовать выгодой внезапности нападения и вызвать со стороны идущих судов какой-нибудь поступок, который дал бы мне право считать эти суда неприятельскими».
Если именно здесь искать причину, почему Колчак не захотел обходить караван со стороны чужой морской границы и вместо этого попытался выстрелом остановить его для досмотра (кстати, задавался ли кто-нибудь вопросом, можно ли было изначально полностью доверять разведывательным данным, на основании которых была предпринята операция?), а затем не бросился вдогонку к шведскому берегу, – то следует предположить, что в этой операции Колчак-генштабист явно возобладал над Колчаком – любителем «авантюр» и «кавалерийских набегов» своих миноносцев.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: