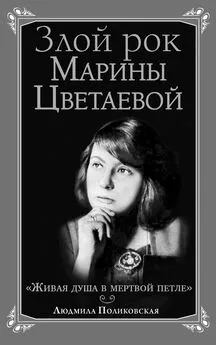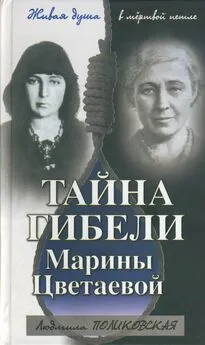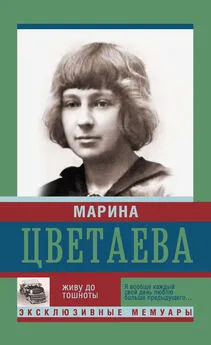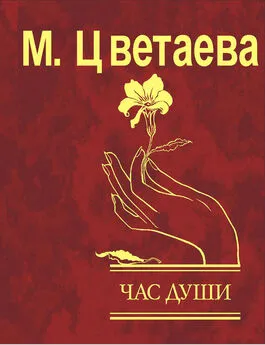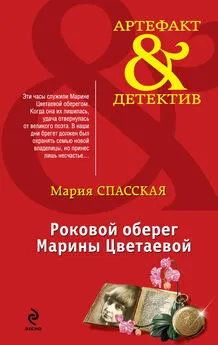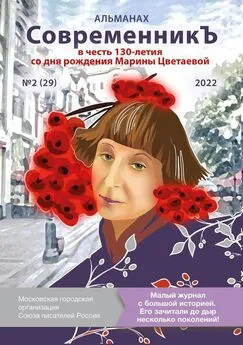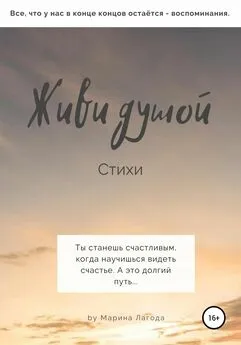Людмила Поликовская - Злой рок Марины Цветаевой. «Живая душа в мертвой петле…»
- Название:Злой рок Марины Цветаевой. «Живая душа в мертвой петле…»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Яуза
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-6259
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Людмила Поликовская - Злой рок Марины Цветаевой. «Живая душа в мертвой петле…» краткое содержание
Споры о причинах этого самоубийства не стихают до сих пор. Кого винить в происшедшем? Какова роль в трагедии мужа Цветаевой Сергея Эфрона? Почему бывший белый офицер пошел на службу в ОГПУ, став сексотом и палачом? Что заставило Марину Ивановну вернуться вслед за ним из эмиграции в СССР на верную гибель? И что за ЗЛОЙ РОК преследовал ее всю жизнь, в конце концов сведя в могилу?
Это «поэтическое расследование» приоткрывает завесу над одной из главных тайн русской литературы. Это – пронзительная и до сих пор во многом загадочная история роковой любви и трагической смерти величайшей поэтессы ХХ века.
Злой рок Марины Цветаевой. «Живая душа в мертвой петле…» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Тогда Эфрон вместе со своим товарищем Гольцевым находят у ротного каптенармуса два рабочих полушубка, солдатские сапоги и папахи – и в этих маскарадных костюмах выскальзывают из училища.
Бог сделал чудо – Эфрон остался жив.
Цветаева, увидев мужа живым и здоровым, тут же подхватывает его и увозит в Коктебель – от греха подальше!
Цветаева хочет провести зиму в Крыму, поближе к другу Волошину, но это возможно только в том случае, если Вера Эфрон привезет детей – Алю и Ирину. Однако Вера Яковлевна не смогла выполнить эту просьбу, и Цветаевой уже через три недели приходится отправляться в Москву. Разумеется, без Сергея Яковлевича. Впрочем, как она считает, эта разлука ненадолго – большевики не удержатся у власти, и муж сможет вернуться.
Мы знаем, что ее надежды не оправдались. Не в Москве, а в Новочеркасске, в Добровольческой армии уже в декабре 1917 года окажется Сергей Эфрон. Марина Ивановна, так много старавшаяся, чтобы муж не погиб на фронтах Первой мировой, не отговаривает его от службы в Белой армии. Никогда особенно не интересовавшаяся политикой, она интуитивно понимала: та война – глупость. Ради чего, собственно, народы убивают друг друга? Ради территорий, проливов, источников сырья? Все это не стоит человеческих жизней. Иное дело – война с большевиками, которые в глазах Цветаевой и Эфрона есть абсолютное зло, гибель России. И дело чести каждого порядочного человека – освободить от них Родину.
Цветаева осталась в Москве одна, с двумя детьми и без всяких средств к существованию. (Одним из первых своих декретов большевики национализировали банковские вклады.)
Буквально через несколько дней после прибытия в Белую армию Эфрон получает командировку в Москву – сформировать московский полк и по возможности добыть для него деньги. Все это нам известно из его документального очерка «Декабрь» (1917 г.), написанного уже после Гражданской войны, а опубликованного впервые только в 1992 году. Об этой же поездке и рассказ С. Эфрона «Тиф» (1926 г.), где в образе главного героя, Василия Ивановича, автор изобразил себя. Василий Иванович в пути заболевает тифом. Но вряд ли этот факт документален. Тиф не проходит быстро и бесследно. А никаких свидетельств о том, что Сергей Яковлевич приехал в Москву больной или полубольной, нет. Но как протекает эта болезнь, он знал не понаслышке. Тифом Эфрон переболеет потом – уже вернувшись в армию.
В Москве, несмотря на очевидную занятость своими делами, он все-таки зашел к сестрам, с которыми познакомился несколько месяцев назад. Там выясняется, что их тетушка хорошо знала его мать. «Его, по-видимому, особенно поразило, что воспоминание о ней (матери. – Л.П .) пришло, когда он этого совсем не ждал и в момент, когда он стоял перед решением важных для себя вопросов жизни. Он пробормотал что-то вроде: «Теперь, именно теперь!»
<���…> Весь вечер был проникнут какими-то диккенсовскими настроениями, идущими прямо вразрез со всеми событиями и переживаниями последнего времени <���…> Что потянуло его, приехавшего, как он сказал, на несколько дней и, кажется, действительно инкогнито, в семью почти незнакомых сестер? <���…> Сам он, по-видимому, воспринял рассказ тетушки как нечто мистическое, как протянутую к нему материнскую руку в такой решительный и значительный момент его жизни».
В это последнее перед многолетней разлукой свидание с мужем Цветаева пишет стихотворение, которым она впоследствии откроет сборник «Лебединый стан» – стихи о Белом движении и белогвардейцах.
На кортике своем: Марина —
Ты начертал, встав за Отчизну.
Была я первой и единой
В твоей великолепной жизни.
Я помню ночь и лик пресветлый
В аду солдатского вагона.
Я волосы гоню по ветру,
Я в ларчике храню погоны.
…Но в жизни все было сложнее. Сергей Яковлевич уехал в армию глубоко обиженным на жену. В 1923 году он расскажет об этом Волошину: «…Я тебе не пишу о московской жизни М<���арины>. Не хочу об этом писать. Скажу только, что в день моего отъезда (ты знаешь, на что я ехал) после моего кратковременного пребывания в Москве, когда я на все смотрел «последними глазами», Марина делила время между мной и другим, к<���отор>ого сейчас называет со смехом дураком и негодяем…»
Другой – это, очевидно, Юрий Александрович Завадский, актер, а впоследствии известный режиссер [10] .
«Негодяй», наверное, все-таки формулировка Сергея Яковлевича. В мемуарной «Повести о Сонечке», написанной в конце 30-х годов, Завадский (Юра З.) предстает как холодный, эгоистичный красавец, не способный ни к глубоким чувствам, ни к оригинальному мышлению. Разговаривать с ним, кроме как о театре, решительно не о чем. «…Не гадкий. Только – слабый. Бесстрастный. С ни одной страстью, кроме тщеславия, так обильно – и обидно – питаемой его красотой» [11] .
Вернувшись из Крыма, Цветаева сблизилась со студийцами – актерами Второй и Третьей студий Художественного театра. Среди них был и Завадский. Увлечение театром и увлечение Завадским шли параллельно.
Уже в первом стихотворении, обращенном к Завадскому (к слову сказать, написанному через несколько дней после «На кортике своем – Марина…»), звучит ирония («Beau teebreux! [12] – Вам грустно. – Вы больны. / Мир неоправдан, – зуб болит!..»).
Завадскому посвящен цикл «Комедьянт» («Ваш нежный лик…», «рот как мед», «прекрасные глаза», «златого утра краше», «рукой Челлини ваянная чаша»). Стихи не выдают глубокого чувства – увлечение, про которое с самого начала известно, что оно не надолго («Не любовь, а лихорадка!», а со стороны героя – «лицедейство – не любовь!»). Цветаева сама сформулировала, что останется от этого романа:
И итогом этих (в скобках —
Несодеянных!) грехов —
Будет легонькая стопка
Восхитительных стихов.
Был и другой «итог» – цветаевские пьесы, роли в которых предназначались Завадскому: «Метель», «Каменный ангел» (тоже характеристика Завадского), «Фортуна», «Приключение», «Феникс». Сюжеты всех этих – при жизни Цветаевой так и не поставленных – пьес далеки от современности. Значит ли это, что Цветаева, как утверждали многие критики, «разошлась» со своим временем? Вовсе нет. Завадский не вытеснил из ее сердца Сергея Эфрона. Погрузившись в восемнадцатое столетие – время действия ее пьес, – она ни на минуту не забывала, в каком веке довелось жить ей и ее мужу. В последнем стихотворении цикла «Комедьянт» у Цветаевой появляется совершенно не свойственное ей раньше сознание греха:
Сам Черт изъявил мне милость!
Пока я в полночный час
На красные губы льстилась —
Там красная кровь лилась.
Пока легион гигантов
Редел на донском песке,
Интервал:
Закладка: