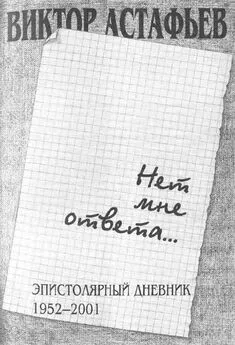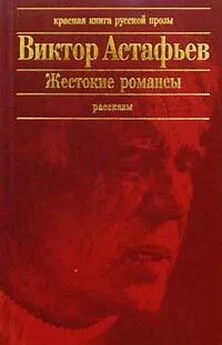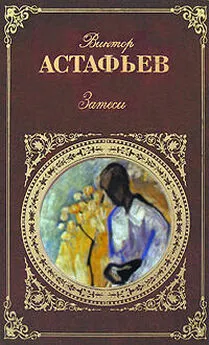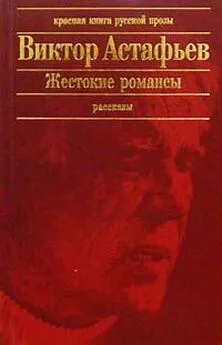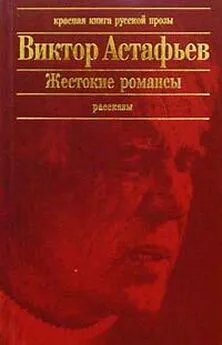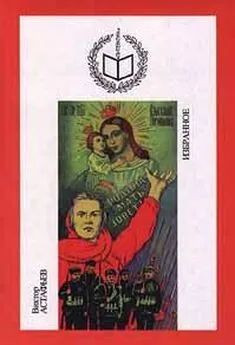Виктор Астафьев - Нет мне ответа...Эпистолярный дневник 1952-2001
- Название:Нет мне ответа...Эпистолярный дневник 1952-2001
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Астафьев - Нет мне ответа...Эпистолярный дневник 1952-2001 краткое содержание
Нет мне ответа...Эпистолярный дневник 1952-2001 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Поклон всем «нашим» в издательстве. Поскольку уезжаю я надолго и далеко — аж в Японию, то шлю вам новогодние приветы и пожелания — главное здоровья и мира, а остальное уж всё стало игрушками.
Пусть будут здоровы и Ваши близкие, а Вам пусть хорошо живётся и работается. Кланяюсь Вам. Виктор Петрович
30 декабря 1984 г.
(В.Г.Распутину)
Дорогой Валентин! Пришло твоё письмо, и что-то так мне от него хорошо на душе стало, что я тут же «взялся за перо», как говорят маститые совремэнные литера-мыслители, хотя дома... мне расширяют квартиру. Бондарев летом был здесь проездом и с уничижительной улыбкой, как он только может (и это часто не от ощущения только власти), так вот вопросик: «У классика Чаковского квартира в центре Москвы сто сорок квадратных метров, а у писателя Астафьева на окраине Красноярска — тридцать пять, так что, в вашем воображении именно такие масштабы квадратных метров соответствуют их масштабам гражданским и писательским?» И стукнул где-то там, в крайкоме, кулаком по столу.
Ну, далее долго рассказывать. Подсоединили мне соседнюю двухкомнатную квартиру, давши семье детной соседской трёхкомнатную, и добрые люди из опять же краеведческого музея, где меня родственно любят, взяли на себя всю канитель по объединению и ремонту квартиры, и пока я был в Японии, а Мария Семёновна в Вологде, в основном, всё и сделали.
Да манатки-то и книги, ремонт вверх дном... Надо заказать стеллажи, и нету в магазинах полок. Марья моя умоталась до последнего краю и кабы не захворала. Зато дальняя, дальняя комнатёнка, с видом на Енисей, уже почти в порядке, и я теперь здесь и сплю, и работаю. Поскольку уединения для работы у меня, кажись, и не было сроду, то избушке в Овсянке и этому вот кабинетику я рад, как самому дорогому подарку судьбы.
Да, я знаю, что мы в Москве разъехались, и ещё теперь знаю, что в Японию предлагалось послать нас вместе, да поехал туда со мною отвратительный грузин, вместивший в себя всё ничтожество и маразм современного торгаша-грузина, однако и ему не удалось испортить мне поездку.
Съездил я здорово. Принимали меня... расскажу потом, как принимали, а пока передаю тебе поклон от Харуко-сан, твоей переводчицы, уже побывавшей в Иркутске и снова туда собирающейся в свадебное путешествие. Уж чем ты её пронял и какой заботой окружил, не знаю, но она так была ко мне внимательна, предупредительна, так хлопотала, что я уже сдерживал её порывы и порой брал под руку, чтоб она, как моя Марья Семёновна (а они ростиком и со спины одинаковы), не убегала от меня в порыве заботы о человеке. И это дочь миллионера! Ах, мамочки мои, чем дольше живу, тем глупее себя ощущаю.
Да-а, дома, мимоходом узнал, что ты после Мексики побыл в Иркутске всего три дня и улетел в Сишеа (США), читать лекции в Гарвардском, ага, университете! И снится мне сон (это ещё до получения твоего письма): какой-то зал, смахивающий на зал пригородного чусовского колхоза «Большевик», где я сутками сиживал на отчётно-выборных собраниях (от газеты), народишко в платках и телогрейках, трибуна из фанеры, проломленная пинком спереду, и на трибуне ты, да вроде и под мухой. Чё-то умное говорил, говорил про нашу литературу, а потом и ахнул: «Вот чего достигла наша литература в последние десятилетия, а вы, бляди, Астафьева не издаёте!..» Тут я заёрзал где-то (ну, значит, на кровати) и подумал: «Чего же это он так-то, сразу и бляди! За рубежом же, надо ж тут марку даржать, и, кроме того, они издавали меня, говорят, даже видели в Сингапуре книжку какого-то солидного американского издательства, сборник рассказов от Пушкина, Гоголя и аж до меня и Василия Белова. Э-эх, зря я Валентину осенью ту книжку не показал, он бы так не выражался...» Ну дальше полезли крысы, трупы, я их топтал, крыс-то, и даже пробовал есть вместе с шерстью и, Маня говорит, сильно, задушенно кашлял — это идёт во мне роман о войне и видятся сцены Днепровского плацдарма. Надо как-то писать, избавляться, иначе задушит.
В Японии, Валя, тебя ждут, и тебе надо туда съездить. Они, японцы, предполагают пригласить тебя весною, но и осенью, когда у нас холодно, там совсем хорошо, плюс 8—15, есть ещё зелень, мандарины на деревьях. Я один, будучи в гостях у очень умного человека и писателя, сорвал и довёз до Красноярска, вон он на тумбочке лежит, светит, будто позднее солнышко.
Плохо мне стало лишь в одном месте, в Хиросиме, это опять же из-за романа, который горит, ворочается во мне. И ещё я очень тяжело пережил два местных землетрясения, видимо, колебания эти очень вкрадчивые, совсем не жуткие, сшевелили контузию в голове и череп мой раскалывало, я уже не мог уснуть более, а на сон и без того мало времени оставалось, и под конец очень устал.
Работал много, два-три выступления, встречи, разговоры, да и выпивки, пусть и слабые, по нашим масштабам. В разговорах, в отличие, скажем, от поляков, японцы скорее любопытны и умеют слушать, а враждебности нет. Лишь один раз где-то что-то коснулось нашей демократии, но я их, япошек, тут же сокрушил, сказавши, что сам я рядовой и беспартийный, а жена у меня коммунист и старший сержант...
Сразу же моя Марья представилась, наверное, в кожаной куртке и галифе, персонажем из жуткой трагикомедии под названием «Оптимистическая», которая, наставив на меня маузер, сквозь зубы спрашивает: «Хочешь ли ты ещё комиссарского тела?», и япошки жалостно заморгали, примолкли озадаченно, им из их патриархального семейного уклада такие инсинуации совсем недоступны, уму ихнему непостижимы. Слово это, «инсинуации», я заимствовал из репертуара одного пермского журналиста, он, как напьётся бывало, а пил часто и много (потому и помер рано), всё бывало плакал: «Вот у тебя отец или дед твой коммунист, а мой даже в профосюзе не побывал...» И чуть чего — кулаком по столу, очками сверкнёт и, как ему, поди, казалось, гаркнет: «Всё это инсинуации, ёптьвою мать!..» Что сие слово означает, он так, по-моему, и не успел выучить. Да и я тоже.
Дак вот, «инсинуаций» с награждениями я пережил много. У меня были великие минуты в жизни, связанные с награждением, светлые минуты, можно сказать: Это когда мне за выбитый на Днепре глаз вручали медаль «За отвагу» — самая моя дорогая награда, самая памятная. Я утерял от неё ленточку и колодку, а сама медаль жива до сих пор, и я ею горжусь. Более мне гордиться нечем, может, ещё тем, что изо всех своих сил я берёг свою солдатскую честь и шибко бы слукавил, если б сказал, что сберёг её совсем без пятен, однако многим и многим даже этого сделать не удалось — сохранить хоть дальний уголок души в чистоте и почтении к своим друзьям, к маме, к бабушке и к деду.
Ну-с, Валентин, я тоже чувствую тебя рядом, всего пятьсот вёрст (япошки ахали и хохотали от души, услышав о таком «пустяковом» для нас расстоянии), и тоже живу и держусь твоей незримой поддержкой и теплотой. Ещё очень люблю Николая Николаевича Яновского и Валю Курбатова. Слава богу, что мы не одиноки, хоть снаружи, слава богу! И ещё я очень люблю эту проклятую работу. Пробовал бросить — не могу. И вот нонче, после болезни, накатал четыре рассказа, два уже успел отделать и один отдал в «Новый мир», другой в «Юность». Карпов хочет ставить рассказ в юбилейный номер, я ему говорю, не надо, не юбилейный автор, а он тоже, как пермский журналист, хорохорится, надену, говорит Геройскую Звезду, погоны полковничьи и пойду по инстанциям. Ну, если уж с таким безобидным, на мой взгляд, рассказом надо ходить по инстанциям, то дела наши совсем плохи.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: