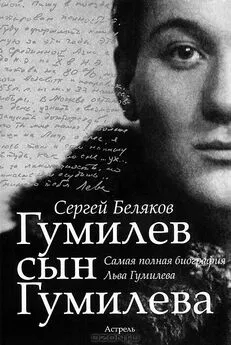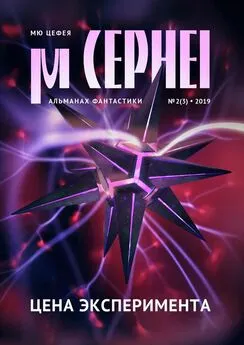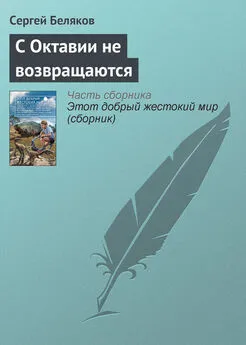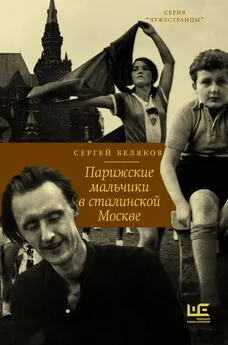Сергей Беляков - Гумилёв сын Гумилёва
- Название:Гумилёв сын Гумилёва
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Астрель
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-271-44967-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Беляков - Гумилёв сын Гумилёва краткое содержание
Сын Анны Ахматовой и Николая Гумилева, узник Норильска и Камышлага, переживший четыре ареста и два лагерных срока, солдат Великой Отечественной, участник штурма Берлина, Лев Николаевич Гумилев – историк с уникальной судьбой и странной, полной тайн и загадок личной жизнью. Гумилев писал в основном о Древнем мире и Средних веках, но созданная им теория лучше других объясняет сегодняшний день и позволяет прогнозировать будущее России и Европы, Китая и мусульманского мира. "Я только узнал, что люди разные, и хотел рассказать, почему между народами были и будут кровавые скандалы", — говорил Лев Гумилев. Его идеи необходимы нам сегодня, в эпоху нового переселения народов, во времена банкротства мультикультурализма и толерантности.
Эта книга – самая полная биография русского историка, основанная на обширном собрании документов и материалов, в том числе не публиковавшихся ранее.
Гумилёв сын Гумилёва - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Гумилев попытался и дальше использовать Варбанец, заказывал ей выписки из необходимых ему справочников и монографий, но мобилизовать Птицу на эту работу не удалось, и Гумилев, убедившись в ее неспособности (точнее, в нежелании) «прореферировать 20 страниц или выписать 1 стр. хронологии», отказался от этой затеи: «Ученой секретарши из тебя не выйдет», — заключил он.
С Василием Никифоровичем Абросовым, ихтиологом и лимнологом (озероведом), Гумилев познакомился еще в сороковые годы. Переписываться они начали после того, как Абросов благоразумно покинул опасный Ленинград и поселился в спокойном Торопце, а затем – в Великих Луках. В конце 1954 года их переписка возобновилась. Гумилев был убежденным сторонником географического детерминизма и пытался выяснить динамику усыхания и увлажнения степей, чтобы сопоставить ее с историей кочевых народов. Абросов бескорыстно помогал ему, составлял извлечения из необходимых Гумилеву книг и реферативные справки, консультировал своего друга-историка. Именно в письмах к «другу Васе» Гумилев поднял проблемы, которыми он будет заниматься в 1960-е. В письме от 3 марта 1955 года Гумилев впервые поставил вопрос, как можно использовать данные об изменении уровня (расширении или усыхании) Каспия и Арала для восстановления картины климатических колебаний. К этой теме он вернется десять лет спустя и напишет несколько интересных статей, показав себя специалистом не только в истории, но и в исторической географии. В переписке с Абросовым Гумилев впервые для себя приходит к мысли о междисциплинарных исследованиях, начинает наводить «мост между науками»: «…ни историк без географа, ни географ без историка не разберутся. Для народов с примитивным уровнем техники колебания ландшафта имеют огромное значение – вся жизнь должна перестраиваться. Отсюда не следует делать вывод о необходимости миграций. Они вытекают из совсем других причин, но подъем и упадок хозяйства, как этногенетический фактор, во внутр. Азии немыслим вне ландшафта. Вот здесь необходимо построить мост между науками, а не удаляться в дебри спекулятивной философии».
Заключенному некуда торопиться, если только его жизнь не зависит от нормы выработки на общих работах. Поэтому Гумилев в лагере мог читать переводы китайских летописей, монографии Окладникова и Грумм-Гржимайло, делать необходимые выписки, глубоко погружаться в материал. Уже тогда Гумилев смог оценить преимущества такого чтения: «Удивительно даже, как много можно сделать в науке, если сосредоточить внимание на двухтрех летописях. А то мы разбрасываемся по библиографии; много хватаем, но мало удерживаем». А год спустя после лагеря Гумилев будет благодарить Эмму за бесценную помощь: «Вы не можете себе даже представить, насколько моя благодарность к вам выросла за это время. И вот за что – книги. Ведь если бы Вы мне их не посылали, мне бы надо было сейчас их доставать и читать, а когда?»
В июле 1955 года благодаря хлопотам Эммы Герштейн о судьбе Гумилева узнал Николай Иосифович Конрад, тогда – член корреспондент АН СССР (спустя три года он станет академиком).
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ
Гумилева внимание Конрада необычайно взволновало: «… я стал счастлив. Ник. Иосифович – это такой человек, перед коим мне не зазорно и на пузо лечь. Это титан востоковедения, и его мнение о моих работах – такая награда, что лучше и быть не может». Гумилев нимало не преувеличил. Конрад – известный синолог и еще более известный японист – и в самом деле был крупнейшим ученым. Мало того, он был еще и прекрасным человеком, «красивым духовно и физически, отзывчивым и честнейшим». Арон Гуревич напишет о нем позднее: "белая ворона" среди сановных старцев Академии».
Конрад прежде не был знаком с Гумилевым, но заинтересовался судьбой ученого, который даже в лагере продолжал заниматься наукой: «Очень порадовал меня отзыв о моих работах Ник. Иос. Конрада». Значит, Конрад прочитал диссертацию Гумилева и, возможно, статью о статуэтках из Туюк-Мазара (лагерную рукопись Гумилев еще не успел переслать на волю). Видимо, Конрад оценил сочинения Гумилева высоко, потому что решил привлечь его ни много ни мало к работе над академической «Всемирной историей».
«Всемирная история» – грандиозный обобщающий труд, которым много лет занимались десятки советских ученых. Только над одним третьим томом, который Конрад редактировал вместе с Черепниным, Петрушевским и Сидоровой, работали пять академических институтов. Сам Николай Иосифович написал для этого тома семь глав, посвященных истории Тибета, Монголии, Китая, Кореи и Японии в раннем Средневековье. Гумилев еще не получал столь ответственной работы для такого престижного издания, а потому откликнулся он с величайшей готовностью:
«"Всеобщая история" – это дело для меня, так сказать, по моему профилю. Постарайтесь, пожалуйста, довести до него следующее. Я написал здесь работу "Древняя история Центральной Азии в связи с историей отдельных стран"; охвачена почти вся Азия, кроме Переднего Востока, Индии, Индо-Китая и Японии. Доведена она до X в. н. э. Работа не совсем закончена, так как у меня не хватило иностранной литературы, но, я знаю, прибавка ее не изменит ничего в принципе, а только даст уточнения. Уже написано ок. 20 печ. листов и составлено несколько истор. карт. Качество работы выше, чем диссертация, т. к. я писал не торопясь, по несколько раз переписывал, да и сам за это время не поглупел, а поумнел. Для "Всеобщей истории" этот текст придется не дополнять, а сокращать, и тут не 2 главы, а целый раздел. Мало этого: эпоха Чингисхана еще не была научно описана. Там есть большие сложности, о которых я знаю и знаю, как найти выход. Если мне будет сделан заказ, вполне официально, я сумею его выполнить».
Увлеченный новой задачей и ободренный вниманием Конрада, Гумилев с новыми силами принимается за работу. Нехватку материала пытается компенсировать более глубоким изучением того, что есть под рукой, — переводов Бичурина, монографии Грумм-Гржимайло и т. д. «…Мне очень хочется, чтобы мой труд не пропал для науки», — пишет он Эмме.
Занятия прерываются в сентябре, когда Гумилева отправляют собирать опилки из-под электропилы, но он все-таки завершает работу над рукописью и в октябре 1955-го отправляет Эмме посылку с прочитанными и уже обработанными им книгами. Среди книг Гумилев прячет тридцать самодельных тетрадей. Это и была рукопись «Древней истории Срединной Азии», переписанная кем-то из лагерных друзей Гумилева. Эмму он попросил перепечатать рукопись в четырех (!) экземплярах, будто она была его женой или личным секретарем, и показать текст Н.И.Конраду; его оценки Гумилев ждал с нетерпением. Кроме того, эту рукопись Гумилев надеялся защитить в качестве докторской диссертации. В этом же письме Гумилев завещает в случае его смерти передать рукопись в Академию наук и присвоить ему посмертно докторскую степень – искреннее служение науке всегда соединялось у Гумилева с тщеславием.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: