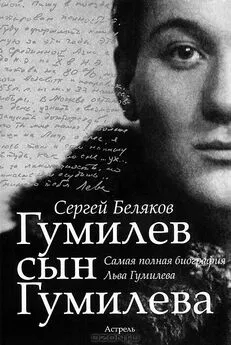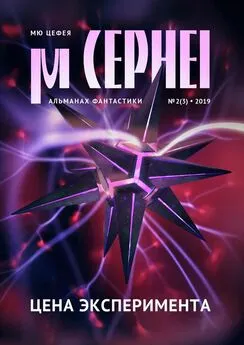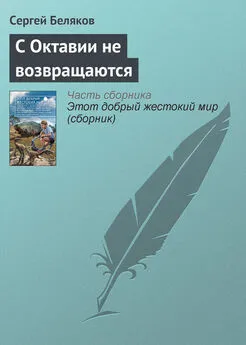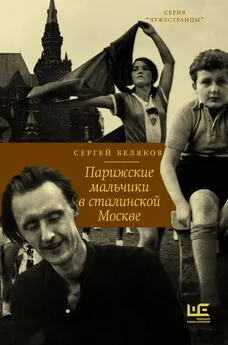Сергей Беляков - Гумилёв сын Гумилёва
- Название:Гумилёв сын Гумилёва
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Астрель
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-271-44967-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Беляков - Гумилёв сын Гумилёва краткое содержание
Сын Анны Ахматовой и Николая Гумилева, узник Норильска и Камышлага, переживший четыре ареста и два лагерных срока, солдат Великой Отечественной, участник штурма Берлина, Лев Николаевич Гумилев – историк с уникальной судьбой и странной, полной тайн и загадок личной жизнью. Гумилев писал в основном о Древнем мире и Средних веках, но созданная им теория лучше других объясняет сегодняшний день и позволяет прогнозировать будущее России и Европы, Китая и мусульманского мира. "Я только узнал, что люди разные, и хотел рассказать, почему между народами были и будут кровавые скандалы", — говорил Лев Гумилев. Его идеи необходимы нам сегодня, в эпоху нового переселения народов, во времена банкротства мультикультурализма и толерантности.
Эта книга – самая полная биография русского историка, основанная на обширном собрании документов и материалов, в том числе не публиковавшихся ранее.
Гумилёв сын Гумилёва - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Герштейн, впрочем, сочла рукопись Гумилева незаконченной, и Гумилев с ней неожиданно согласился: «Что касается диссертации, то Вам, конечно, виднее, нужно ли ее отдавать на рецензию или преждевременно».
Эмма, однако, сдержала свое обещание: она перепечатала рукопись на машинке, вложила листы в четыре красивые черные папки и принесла их Конраду. Николай Иосифович с нежностью подержал их в руках, «будто взвешивал каждую». Сам Конрад был арестован еще в 1938 году, провел год на Шпалерной и получил пять лет ИТЛ за шпионаж в пользу Японии. Несколько месяцев будущий академик провел на лесоповале в одном из пунктов Краслага, потом попал в шарашку, где переводил с китайского и японского, и лишь в сентябре 1941-го приговор по его делу был отменен и Конрада выпустили на свободу. В шарашке Конрад переводил и комментировал классические китайские военные трактаты «Суньцзы» и «Уцзы». В судьбе Гумилева Конрад мог увидеть повторение собственной судьбы.
Академическая «Всемирная история» в десяти огромных, по тысяче страниц большого формата томах известна не только профессиональным историкам. Эти фолианты в толстых темно зеленых переплетах когда-то стояли в читальных залах всех приличных библиотек. Но среди авторов «Всемирной истории» имени Льва Гумилева нет. Неясно, то ли Николай Иосифович Конрад не был доволен работой Гумилева, в самом деле неоконченной, или его отпугнули трудности работы с автором, который все еще находился в лагере, или вмешались какие-то неведомые нам обстоятельства, но поработать для «Всемирной истории» Гумилеву так и не пришлось.
Мне представляется, что причина в концептуальном несогласии Конрада и Гумилева. Дело в том, что в третьем томе «Всемирной истории» история кочевников Центральной Азии – хуннов, сяньби, тобасцев, жужаней, тюрков – была всего лишь приложением к истории Китая. Хотя исторический материализм отрицает гегелевское деление народов на «исторические» и «неисторические», но многие историки этого деления придерживались негласно. Вот и в главах, подготовленных Конрадом, кочевым народам Центральной Азии было посвящено лишь несколько страниц.
«НА ЛЮТНЕ ТРУНА…»
Последние, весенние, месяцы своей лагерной жизни Гумилев посвятил избранным сочинениям Сыма Цяня, выпущенным «Гослитиздатом» в самом начале 1956 года. «Сыма Цянь поглотил все мое внимание, и надолго», — писал Гумилев Эмме Герштейн. Гумилева раздражали только слабый, как ему казалось, комментарий и предисловие синолога Л.И.Думана: «Это книга очень умная, и быстро ее читать нельзя. <���…> Сила Сыма Цяня в том, что он мыслит диалектически и в каждом факте видит две стороны. К сожалению, Думан этому искусству не обучен. Предисловие написано примитивно».
В сочинениях Сыма Цяня Гумилев нашел мысли, необходимые для будущей теории этногенеза. Китайский ученый повлиял на него больше, чем Шпенглер или Ницше. Сыма Цяня Гумилев называл гением. Ни одного европейского мыслителя он не ставил так высоко.
Из писем Льва Гумилева к Анне Ахматовой: «Утешаюсь Сыма Цянем. Вот умница!» (13 апреля 1956);
«Читаю Сыма Цяня в третий раз с неослабевающим восторгом» (17 апреля 1956).
В XX веке почти все историки верили в прогресс, в линейное развитие человечества. От простого к сложному. От мрака невежества к царству разума. От рабства древнего мира, от ужасов темного Средневековья к счастливому и прекрасному миру современности, царству просвещенного обывателя. И даже такие «достижения» современной цивилизации, как нацизм и ГУЛАГ, не могли поколебать религии прогресса. И ведь ученые XIX века в большинстве своем думали именно так же. Современные историки не открыли здесь ничего нового, разве что ветхие слова сменили на современные, модные: «архаика», «модернизация», «проект модерна».
По Гумилеву в истории народов нет прогресса, но есть движение, изменение, которое оставляет следы не только на страницах летописей и хроник, но и в живой природе: антропогенные ландшафты, истребленные виды животных и растений, руины древних городов. Вся этническая история как будто «состоит из переплетения цветных нитей, концы которых заходят друг за друга. <���…> Заря Эллады, когда базилевсы с дружинами разоряли Трою, — XII в. до н. э. — по времени совпала с закатом Египта и началом упадка могущества Ассирийского царства и Вавилонии. Так, при агонии золотой Византии – XIII в. н. э. — возносились знамена франкских рыцарей и бунчуки монгольских богатырей. А когда изнемогал от внутреннего кризиса средневековый Китай – XVII в., тут же поднялся трон маньчжурского богдохана, вокруг которого объединилась Восточная Азия».
Этническая история требует иного ощущения времени, и Гумилев найдет его именно у Сыма Цяня: «Путь трех царств кончился и снова начался».
На самом деле Гумилев познакомился с таким взглядом на время на девятнадцать лет раньше, в 1937 году, когда перевел стихотворение китайской принцессы Да И из династии Чэнь (VI век н. э.):
Предшествует слава и почесть беде.
Ведь мира законы – трава на воде.
Во времени блеск и величье умрут,
Сравняются, сгладившись, башня и пруд.
Пусть ныне богатство и роскошь у нас,
Недолог всегда безмятежности час.
Не век опьяняет нас чаша вина,
Звенит и смолкает на лютне струна.
Подстрочник Гумилев нашел в переводах китайских хроник, сделанных в первой половине XIX века русским востоковедом Н.Я.Бичуриным (иеромонахом Иакинфом). В 1956-м, читая Сыма Цяня, Гумилев должен был припомнить свой перевод того древнекитайского стихотворения.
Гумилев покинет лагерь 11 мая 1956 года, через два с небольшим месяца после исторического доклада Хрущева на XX съезде КПСС. Это будет его последний срок заключения.
Варлам Шаламов был убежден, что лагерь может принести человеку только зло. Солженицын написал «Спасибо тебе, тюрьма!».
Гумилев привез из лагеря черновики двух будущих книг. Одна из них скоро станет его диссертацией. Его лагерные размышления и наблюдения трудно переоценить. Алексей Савченко утверждал, будто бы уже в лагере Гумилев обдумал, обсудил, «пропустил сквозь сито критических высказываний» все основные идеи своего будущего трактата «Этногенез и биосфера Земли». Поверить в это невозможно, потому что трактат изобилует сведениями, которые Гумилев мог почерпнуть лишь позднее, уже в шестидесятые годы, но в словах лагерного друга есть своя правда: Гумилев успел многое обдумать именно в лагере, а в лагерных спорах отточил свое красноречие. Гумилев позднее говорил, что на воле, в университете, например, ему не так часто приходилось вступать в научные дискуссии. Многие профессиональные ученые почемуто не любили говорить о науке, а в лагере спорили часами. Гумилев, разумеется, почти всегда выходил победителем и довольно потирал руки:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: