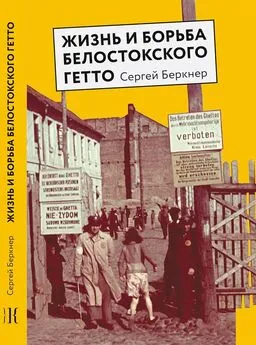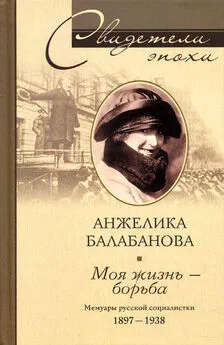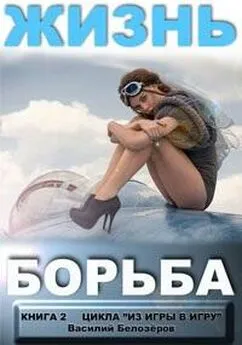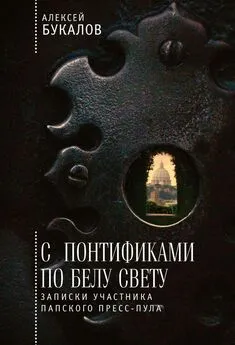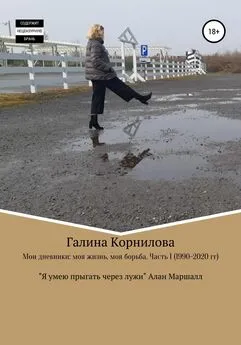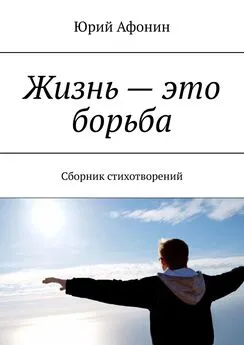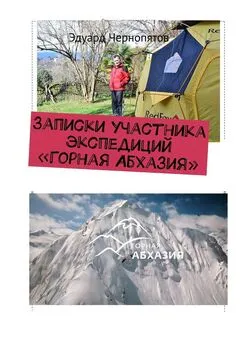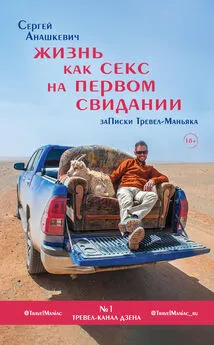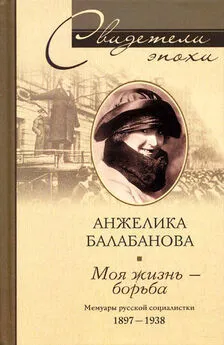Сергей Беркнер - Жизнь и борьба Белостокского гетто. Записки участника Сопротивления
- Название:Жизнь и борьба Белостокского гетто. Записки участника Сопротивления
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Книжники
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-906999-49-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Беркнер - Жизнь и борьба Белостокского гетто. Записки участника Сопротивления краткое содержание
Живым и ярким языком автор пишет о жизни довоенного Белостока, еще польского, о семье, о начале войны и первых репрессиях против еврейского населения, о событиях, в которых он еще юношей участвовал непосредственно. В книгу, написанную в конце 1990-х годов, также вошли свидетельства и воспоминания очевидцев восстания в Белостокском гетто (август 1943 г.), фотографии и документы, собранные автором в послевоенные годы.
Для широкого круга читателей.
В издании использованы фотографии из архива автора, Национального цифрового архива Польши, архива Яд ва-Шем (Израиль) и агентства East-West.
Жизнь и борьба Белостокского гетто. Записки участника Сопротивления - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Дядя Цалель был не столь симпатичен. Он также жил в собственном домике по улице Юровецкой, но это была настоящая лачуга. Высокий, худой, лысоватый дядя Цалель постоянной работы не имел, а семья была большая. Говорили, что он картежник, играл на деньги даже в шахматы, не прочь был пропустить рюмочку. Жена была худенькая, высохшая, немощная, все время болела. У них было три сына и две дочери. Старший сын Арчик пошел в отца, на работе не удерживался. Где-то в начале тридцатых годов из Америки приехала перезрелая невеста, он женился на ней, и они укатили в Штаты. Дальнейший след его пропал. Средний брат Хаим, весьма рассеянный и раздражительный, был вечным студентом-химиком Виленского университета. В этом звании он пробыл около восьми или девяти лет, но так и не окончил его. Младший брат Борух был приятным в общении. Он работал монтером, играл в футбольной команде «Штрала», руководимого моим отцом. С Хаимом и Борухом судьба меня позднее свела в гетто.
2. Война в Белостоке
31 августа 1939 года гитлеровцы, переодетые в форму польских солдат, имитировали нападение на свою же радиостанцию в пограничном немецком городке Глайвице. Эта грубая провокация послужила предлогом для вторжения в Польшу на следующий же день, 1 сентября. Несмотря на превосходство немецких войск в живой силе и технике и бегство польской верхушки, польская армия сражалась героически.
Тем не менее гитлеровцы постепенно продвигались вглубь Польши. Когда угроза их вторжения в Белосток стала реальной, многие учреждения стали эвакуироваться, в том числе и «Каса хорых», в которой продолжал работать отец. Все были уверены, что скоро ситуация изменится, союзники окажут помощь Польше и немцы уйдут. Поэтому, когда мама предложила, чтобы мы с отцом, как мужчины, эвакуировались с «Касой хорых», а она останется дома до нашего возвращения, отец, после некоторых колебаний, согласился.
Автобусы для рядовых сотрудников, а также некоторых членов семей, достать было невозможно, и эвакуировались на подводах. Начальство, конечно, укатило на машинах. Возле железнодорожной станции Валилы, около 35 километров восточнее Белостока, я попал под первую в жизни бомбежку. Фашистские самолеты несколько раз заходили в пике, бомбили, обстреливали из пулеметов. Мишенью были беженцы. По обеим сторонам шоссе стоял молодой сосняк, мы легли под деревьями. Нескольких человек ранило. Мы с отцом остались невредимы. По странному стечению обстоятельств, до войны мы с мамой однажды отдыхали летом в Валилах. Местечко это было далеко от Белостока, снять комнату было здесь дешевле. В Валилах я подружился с местным парнем года на два старше меня — Шмуэлом Башевкиным. У него были золотые руки. Впоследствии в гетто он занимался сборкой оружия, детали для которого сам же и похищал в немецких мастерских. Шмуэл Башевкин героически погиб в лесном бою с немцами. Позже, в партизанах, я встретился с его братом Лейблом.
Однако продолжу свой рассказ. Ночью наш «табор» возобновил движение, и через несколько дней мы въехали в Барановичи. Дошли сведения, что Белосток немцы захватили, но дальше на восток вроде не двигались. Поэтому было решено остановиться в Барановичах. Только заказали обед в ресторане, как прилетела большая эскадра немецких самолетов — их было около 36 — и двумя волнами начала бомбить Барановичи. В ресторане началась паника, которой поддались даже некоторые находившиеся там офицеры. Отец был одним из тех, кто не растерялся и принял меры к успокоению людей.
Через два дня стало известно, что Красная армия перешла советско-польскую границу и продвигается на запад. Прошло еще некоторое время, и мы узнали о советско-германском соглашении. В соответствии с ним Польша была разделена между СССР и Германией. Гитлеровцы ушли из Белостока, а мы вернулись в родной город.
Трудовой народ Белостока и округи, других областей, присоединенных к СССР, — еврейские и немало польских рабочих, белорусские крестьяне, левые круги интеллигенции — ликовали. После трудностей жизни в Польше — безработицы, политической и национальной дискриминации, реальной опасности гитлеровской оккупации — освобождение этих территорий Красной армией воспринималось как чудо. О том, что происходило в конце тридцатых годов в СССР, подавляющее большинство населения не знало.
Конечно, немало людей отнеслось к приходу Красной армии гораздо более сдержанно, а то и враждебно. К последней категории, естественно, относились представители крупной и средней буржуазии и выражающие их интересы партии, польское офицерство, полиция, чиновники, кулаки, «осадники», то есть ветераны польско-советской войны, получившие в двадцатых годах большие наделы земли в восточных кресах [6]для колонизации и полонизации приграничных земель. Однако энтузиазм многих простых людей, рабочих, беднейшего крестьянства, левой интеллигенции, особенно в начальный период, был неподдельным.
Впрочем, вскоре обнаружилась и обратная сторона медали — старые товары и продукты быстро исчезали, а новые, советские, поступали в незначительных количествах. Началась бешеная спекуляция, экономическое положение трудящихся резко ухудшилось. Прокатилась волна репрессий, а их жертвами нередко оказывались простые люди, отнюдь не враги советской власти. Весной 1941 года начались массовые депортации «неблагонадежных».
Мой брат по-прежнему жил в Вильно, который тоже стал советским городом. В дни прихода Красной армии в Вильно Павел стал политруком батальона Красной гвардии, сформированного революционно настроенными рабочими, интеллигентами и крестьянами для помощи советской власти. Отец предложил мне поехать в Вильно для поступления в гидромелиоративный техникум, а на первых порах остановиться у брата, который жил с женой у ее родителей. Никакого желания поступать в этот техникум у меня не было. Главный вступительный экзамен был по математике, а с ней я не ладил — у меня был четко выраженный интерес к гуманитарным наукам. К тому же уезжать из дома мне также не хотелось, однако мнение отца было решающим, и я поехал.
Приехав в Вильно, я стал готовиться к вступительным экзаменам. Но все в одночасье изменилось. Советское правительство решило передать Вильно независимой Литве. Я, к моей радости, возвратился домой, а со мной брат, его жена Бася и ее младшая сестра Мира, года на два моложе меня. Все разместились в нашей трехкомнатной квартире в Белостоке.
Я поступил в 9-й класс средней школы № 8, бывшей частной гимназии Друскина (куда в 1937 году меня не приняли). Директором этой школы назначили Г. Романову (в 1989 году она скончалась в Гродно), а завучем стал мой брат Павел.
Бася — биолог, хотя и не успела в свое время окончить Виленский университет из-за ареста. Вакансии по биологии не было, и Бася стала учительницей нового предмета — белорусского языка и литературы. В польской тюрьме Бася сидела вместе с белорусскими комсомолками и научилась говорить, читать и писать по-белорусски.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: