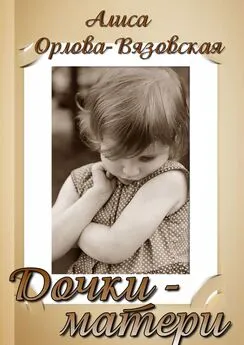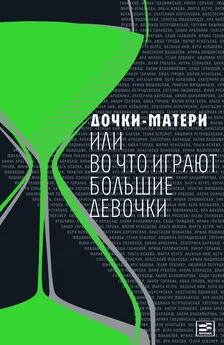Елена Боннэр - Дочки-матери. Мемуары
- Название:Дочки-матери. Мемуары
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-105593-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Боннэр - Дочки-матери. Мемуары краткое содержание
Эта книга — не просто автобиография Елены Боннэр, но и изложение интереснейших свидетельств и фактов друзей и соратников удивительной героини. В книге — уникальные фотографии нескольких поколений семьи Елены Георгиевны.
Дочки-матери. Мемуары - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Спали мы не в большом доме, а в двух дачах (мальчишечья и девчоночья), расположенных в конце усадьбы, почти в километре от него. Там у нас была другая жизнь — лечебная. Утром, еще в постели, всем мерили температуру. Потом мы босиком, скинув ночные рубашки, совсем голые, выбегали на застекленную веранду, становились в ледяную цинковую ванну, нас окатывали из ведра ледяной водой, и, слабо вскрикнув, очередная жертва закаливания влетала в комнату, где ее нянечка докрасна растирала полотенцем. В первый день я чуть не умерла от страха, стоя в очереди на эту процедуру и наблюдая ее через стеклянную дверь веранды. Но скоро полюбила, а верещала и взвизгивала больше по обычаю — как все. После окатывания одевались быстро и как-то радостно. Тут же одних смотрел врач, другие шли к сестре принимать лекарства. Потом мы выходили на улицу. Утро только начиналось, и почти на глазах, за 15–20 минут, пока мы шли, серый рассвет переходил в начало дня. В большом доме перед завтраком всем подряд давали рыбий жир, который мы заедали тоненькими ломтиками черного хлеба с солью. Было вкусно.
А вечером, когда мы возвращались в дачу, над нами было темное звездное небо, и кажется, что там всегда светила луна. Хотя теперь я знаю, что всегда светить она не может. И снег скрипел под нашими валенками. И воздух был такой легкий!
Перед сном снова мерили температуру. Сестра, собирая градусники, улыбаясь, говорила: «Нормальная. Спокойной ночи». И после недолгого шушуканья наша большая спальня, погруженная в теплую нестрашную темноту, замирала.
Но однажды температура у меня оказалась повышенной. Меня завернули в одеяло и на саночках увезли в маленький домик, стоявший на полдороге между дачей и большим домом. Изолятор. А на следующий день зазвучало новое слово — дифтерит. Начались какие-то уколы, бесконечные компрессы, противное теплое питье. Потом — может, через много дней, а может, на другой — появилась мама и стала меня одевать. Она что-то радостно говорила, но лицо у нее было грустное, и я, как уже бывало много раз при всяких моих болезнях, почувствовала себя виноватой. Но я же ничего плохого не делала. И даже снега не лизала. Мама натянула на меня пальто (тогда говорили — шубу, хотя это не была меховая шуба), а ноги завернула в одеяло, совсем как маленькой. Потом вошел папа. Он даже не поцеловал меня, а только улыбнулся. И отнес в машину — на заднее сиденье. Потом они еще долго говорили с доктором, стоя на крыльце изолятора. А я смотрела через стекло на деревья, верхушки которых качались от ветра так, будто они упрекали меня, и сама себе говорила мамины слова: «Господи, ну когда же кончатся эти бесконечные болезни?» Мы ехали долго. Шел снег, и казалось, что машина никогда не выберется из серой мглы, что города не будет. Я заснула.
И началась еще одна больница. Долгие пустые дни в маленькой стеклянной загородке. Ни книг, ни игрушек. Ни Раиньки, как при скарлатине. Ни мамы, как после операции. Слева в такой же загородке какой-то большой мальчик. Дальше еще такие же клетушки. Справа умывальник, стол, и там всегда что-нибудь делает медсестра. Ничего не болит, и только скучно. Скучно. Скучно. Скучно. Раньше, в Ленинграде, когда я слонялась без дела и почему-нибудь ныла, что мне скучно, Батаня возмущенно поднимала брови и говорила: «Полковой оркестр прикажете пригласить?» Я не очень понимала, что это значит, только знала, что скучать или говорить, что скучно, нельзя. Но тут-то и говорить было некому.
Осенью 1987 года мы с Андреем возвращались в Москву из Боровска и остановились у дороги отдохнуть. Я разглядывала карту. Мне на глаза попалось название «Тучково». Захотелось увидеть снова желтый «дворец» — такой ли уж он большой? Реку, откос, «чистое поле». И мы поехали на розыски. Тучково мы нашли, но, кроме названия, ничего не было — стандартный поселок, безлесая местность. Застроенный садово-кооперативными домиками-ульями откос. Осталась, правда, река, но за ней не было никакого чистого поля — все какие-то стройки. А от усадьбы не нашли даже фундамента.
Когда я вернулась домой после лесной школы и больницы, мама сказала, что за эти месяцы «мы потеряли дядю Саню». Он умер, когда я была в лесной школе — заразился тифом на каком-то съезде, кажется, колхозников. Она не говорила мне, боялась моей реакции. Я долго плакала ночью, когда меня никто не видел. Я жалела его, тетю Роню, себя. Слово «смерть» вызывало негодование, внутренний протест всего существа, но за словом, кроме чувства тоски, еще ничего не вставало, только страх. Все-таки это была какая-то абстрактная смерть. Я ее не видела, и можно было думать, что дядя Саня уехал, можно было даже в уме сочинять ему письма. Что я первое время и делала.
Еще через несколько дней я встретила на улице Севку, и мы с ним гуляли, ходили на Страстную к памятнику Пушкину, там лизали мороженое, одно на двоих — у нас не хватило денег. Он подробно расспрашивал меня о больнице и лесной школе. Потом дошли до моего дома, и он сказал, что они с Гогой на днях ко мне придут. Дома я рассказала, что встретила его и что он теперь совсем не выше меня, а мы одного роста. Мама спросила: «Ну, как он?» Я удивилась ее вопросу, ведь я же только что говорила, что он вырос. И тут мама спросила: «Ты что, не знаешь, что Багрицкий умер?» Я не знала. Откуда я могла знать — ведь она сама, когда я была в больнице, мне не сказала, а в лесной школе вообще никто ничего про жизнь вне нашей «усадьбы» не говорил. Там, даже если бы произошла мировая революция, и то бы не узнать. Лес, мертвый час, теплое молоко, холодное обливание, лекарства, рыбий жир, измерение температуры, «девочки, спать», «девочки, на правый бочок», «девочки, подъем».
Я чувствовала себя виноватой перед Севкой — ходили, гуляли, мороженое ели. Мне казалось, что я должна что-то сделать, и немедленно. Я сказала, что еще немного погуляю, и пошла к Севке. Всю дорогу я боялась, как я приду, как теперь увижу его и Лиду. Я позвонила и дрожа стояла у дверей. Открыла Маша и сказала: «Наша законная невеста пришла». Севка выбежал из своей комнаты, а из Эдиной вышла Лида. Она повосторгалась, как я выросла, смеясь, сказала: «И все еще с бантом», и пошла в комнату, откуда слышались голоса гостей. Когда я вошла к Севке, он как-то недружелюбно спросил, чего я пришла. Я, запинаясь, сказала, что я не знала, что Эдя (это я впервые так его назвала) умер, но Севка не дал мне договорить, а спросил: «Хочешь, я тебя снова до дому провожу?» И мы пошли на улицу. А как умер его папа, как он был у него в больнице накануне и про похороны, Севка рассказал мне 4 августа 1937 года, в ночь на пятое.
Встретились мы в последние дни экзаменов. Впереди было лето. И я как-то быстро забыла неловкость своего визита к Севе.
Еще в больнице и сразу после нее я как-то сразу очень выросла, вытянулась почти до сегодняшнего моего роста, а был период, когда я была и невысокая, и кругловатая, так что в третьем классе меня кто-то назвал «флюшка» — не «плюшка», а «флюшка». Я не очень ощущала свой миокардит, но врачи его слышали, и этот учебный год я обошлась почти без школы. Появилась там уже перед экзаменами. Они были введены как раз в тот год и назывались «испытания».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
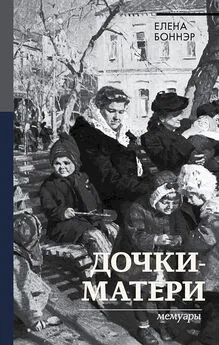
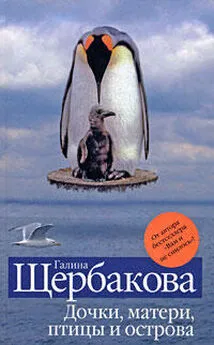
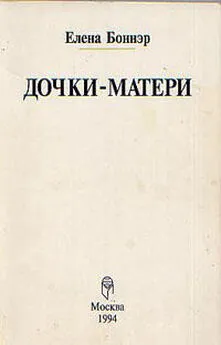

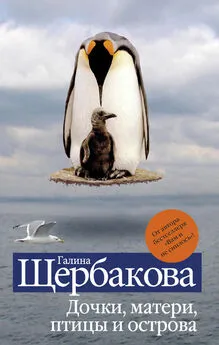
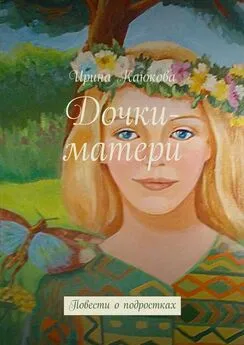
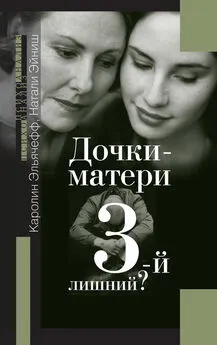
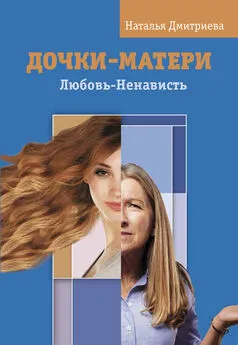
![Елена Березовская - Дочки-матери [Все, о чем вам не рассказывала ваша мама и чему стоит научить свою дочь]](/books/1097410/elena-berezovskaya-dochki.webp)