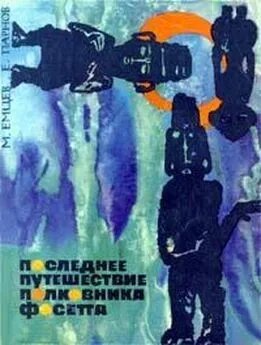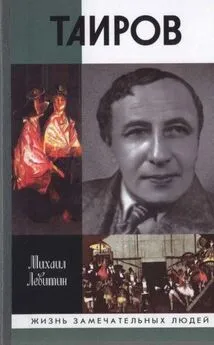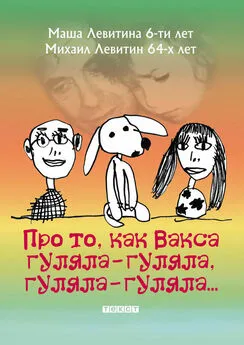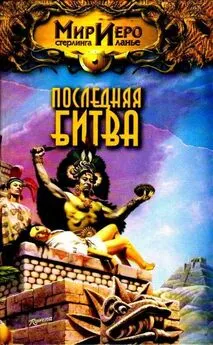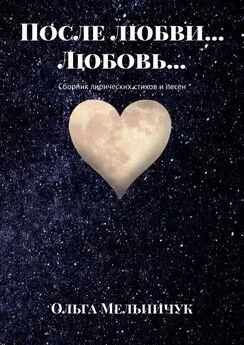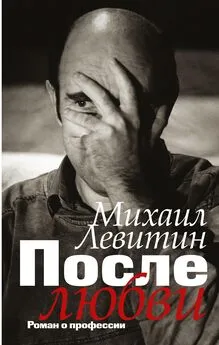Михаил Левитин - После любви. Роман о профессии [сборник]
- Название:После любви. Роман о профессии [сборник]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-118612-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Левитин - После любви. Роман о профессии [сборник] краткое содержание
«После любви» — роман о профессии режиссера, о спектаклях, об актерах, об Одессе и Москве, об эксцентрике и обэриутах и конечно, о людях театра.
Михаил Жванецкий и Виктор Шкловский, Алиса Коонен и Любовь Полищук, Роман Карцев и Виктор Ильченко, Петр Фоменко и Юрий Любимов, Рита Райт-Ковалёва и Курт Воннегут, Давид Боровский и Владимир Высоцкий…
После любви. Роман о профессии [сборник] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Мы ищем навсегда, а они — на один раз. Мы проповедуем необязательность, создаем целую систему, а они были просто раскрепощены и подвижны. Мы — классику, они — сегодняшний день, даже минуту. Но всё-таки от них пришло к нам это уютное благоустройство в любом материале, довольство малостью, отношение к материалу как к шапито, а не на века выстроенному Колизею.
Я всегда верил, что у меня есть предшественники, что служу традиции, даже когда говорили, что только разрушаю.
А барон Николай Михайлович Фореггер фон Грейфентурн? Здесь просто недоразумение. Живой классик, а так как репертуар мелкотравчатый — обозрения, мелодрамы, оперетты, — то и говорить не о чем. Театр до сих пор для нас исчерпывается тем, что он ставит, драматургией.
Остались в истории сочиненные им танцы машин, да и то как подражание Западу.
Вообще этот барон — исчадие нэпа, дурным вкусам потрафлял, и так останется, если мы не поймем сейчас, что нэп для театра — это возвращение к счастью, возвращение к тебе, любимой, которая скоро снова умотает во всякие там свои заграницы, и ты вдыхаешь все ее запахи на память, чтобы по ним представлять дальние страны.
Барон фон Грейфентурн, он же Николай Фореггер, был человек выдающийся, его даже Мейерхольд признавал. Талантливейший пластик, эрудит, академически образованный, он с таким достоинством презрел эпоху, что она этого даже и не заметила.
Знал много, умел всё, хотел только одного — не принимать близко к сердцу. Это тогда называлось эстетством.
В мастерской Фореггера, Мастфоре, создавались чудеса. А потом театр сгорел, создатель растворился, ушел в балетмейстеры, был падок на женскую наготу и прелесть. Потерял всё, но избежал потери самого себя. То, что умер в своей постели в тридцать девятом, считаю счастливой случайностью, недоразумением.
Ну вот был бы я бароном, Юра, или был бы у меня юмор Гутмана, а вдруг бы я… Безумие проходит, сожалею, но безумие проходит.
Я всегда любил пустоту, о глупость моего детства, уходящая, как оркестр из городского сада. Если вам удалось подсмотреть, как в сумерки, отыграв, встают музыканты, потягиваясь, начинают собирать ноты, как хмуро первым убегает капельмейстер и оркестровая чаша посреди городского сада превращается в черную дыру, тогда вы всё понимаете. А потом на тех же скамейках, что и оркестр, — местная шпана, тлеют цигарки, Шопен сменяется совсем другой музыкой. Всё это слишком красиво, но так неудержимо уходит жизнь, что хочется вспоминать ее как красивую.
Так кто сегодня — Кильберг или Винницкий? Винницкий или Кильберг?
Я не согласен в оценках пошлости, как и в оценках великого.
Бывает великая пошлость, знаете, великая банальность, и она добра к людям, а этого достаточно. Я никогда до великой пошлости не поднимался. Люди о чем-то не догадываются, бывает, но если они что-то знают?
Семечки у Ланжерона, всё залузгано, день футбола, дядя, ненавидящий футбол, выбивает меня, семилетнего, коленкой под зад из переполненного болельщиками троллейбуса навстречу другому дяде, футбольному фанату. Голубизна стадиона вокруг, когда ты сидишь на одном из витков спирали, уходящей в небо. Не успел прожить, не належался в песке у моря. Песок казался грязным и колючим, в окурочках. И легкая вонь. Так небрежно пованивает юг, так равнодушно. Подлокотники кресел должны быть багровы и стерты.
Мне дело есть до умерших. Я знаю бессмертный дух своей профессии.
Хочется беспросветной глупости и пустоты, умопомрачительной чепухи, блестящей, неотразимой. Где ее взять?
Может быть, на островах — в Карибском море, в Тихом океане? Одна надежда на острова, где любовь и глупость. Только легкие, необязательные люди способны на чудо. Вот он сидит сбоку, на скамеечке.
— Ну и что высидели, дядя?
— Солнце, мой дорогой, солнышко.
Уходит жизнь. Для моего отца, прикрывавшего лысину соломенной шляпой, солнце уже ушло.
Торговка кильками в газетных кулечках, маленькая, квадратная, с горящими черными глазами, вдавленной нижней частью лица, покатым лбом. Может быть, это Гутман?
— Постойте, поторгуйте за меня, я на хвылиночку отойду.
А потом, наклонившись: «Ну, что вы там, молодой человек, наторговали?»
А молодой человек умирает от стыда, стоит в базарном ряду, торгует гутмановской килькой и молит Бога, чтобы никто из знакомых его не увидел.
Я всё подбираюсь: откуда всё берется? Почему эстрада и мещанство — синонимы, что такое халтура, есть ли она? Почему серебряные зубы хохочущих на эстрадных концертах немолодых зрительниц вызывают у меня озноб? Кажется: мертвые головы скалятся.
Но это для меня, для нас, постоянно думающих о смерти, а в мире есть еще и пожиратели раков, любители бань, а в мире есть еще легкое бытовое разложение, анекдоты, нега, закусочки.
Мы несчастливы. Да что же нас так тянет в облака? Если закрыть правый глаз и заткнуть левое ухо, прекрасно можно продержаться на земле. Меня занимает земное, пропущенное мной существование. Пузатые мужчины и тощие, вертлявые женщины. Накопительство и домашний уют. Мещанство. Его с такой радостью разоблачают.
Революция, конечно, перемешала ценности, идеи всякие, а человек оставался верен своим предкам и устраивался, устраивался. Кроме безумцев, все делали революцию для себя. Диктатор — это вдохновенный мещанин, наша жизнь — кукольное представление, и только солнце придает ей реальность.
Люблю наблюдать, как люди в штиблетах и кепочках разговаривают друг с другом около театра, вернее, выкрикивают что-то неопределенное друг другу. Это артисты после репетиции. Они спешат домой — спать. В провинции они сами создают вокруг себя сутолоку, чтобы не помереть от скуки, иллюзию занятости. И только честные не скрывают праздности.
Все эти пластинки я протащил по жизни за собой, они затерты, как моя жизнь, сквозь шипение и хрипы я слышу не голос певца, а свой собственный детский голосок, полный надежды.
Комплект «Белой акации» в желтом конверте, три пластинки. Наверное, я на диване лежал, подбрасывая бамбуковую палочку, а они гремели надо мной всеми несовершенными, но любимыми голосами хористов московской оперетты. Я прислушивался к советам этих голосов больше, чем к самым мудрым книгам. Это были стоны радости, звуковой радости моего детства. Я их, эти советы, эти пластинки, сохранил.
Создание подстрочников для опереточных арий, дуэтов непостижимо. Приходит же в голову людям подобная чушь! Сейчас они как-то настроились на большую поэзию, окультурились, а раньше писали, как незнакомые с рифмой и смыслом идиоты. Но в этом был великий смысл и жанр.
А еще раньше, в двадцатые, возник советский водевиль, то есть так и не возник, что-то пытались сделать одесситы: Катаев, Ильф, Петров — как-то вывести театр из обозрения в водевиль, а потом, если получится, и в оперетту. Но, честно говоря, не получилось, очень смешно, но не получилось. Наверное, слишком много злости, слишком мало радости, анекдотических положений. Водевиль не прижился, не хватило беззлобности на целую пьесу. Он предполагает добродушие и хорошее настроение. Откуда взяться? «Безумный день», «Сильное чувство»… Одна экспрессия в названии, а на самом деле сценические комиксы, хотя кто посмеет утверждать, что это не театр? А если не пользовать для этого настоящий театр, а так — играть где угодно, перед кем угодно в перерывах между митингами, страстями, любым другим красноречием? Пусть талант актера поднимет водевиль до уровня высокой комедии.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Михаил Левитин - После любви. Роман о профессии [сборник]](/books/1143577/mihail-levitin-posle-lyubvi-roman-o-professii-sbo.webp)