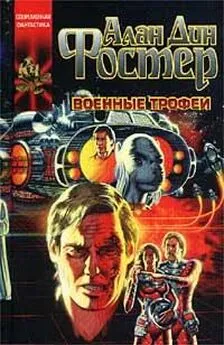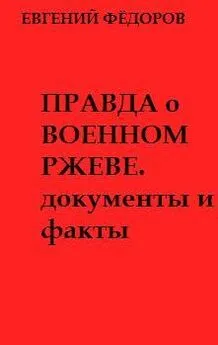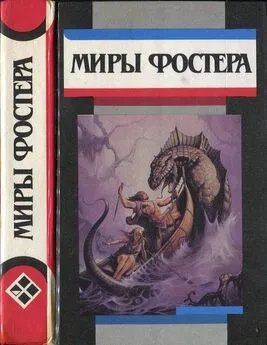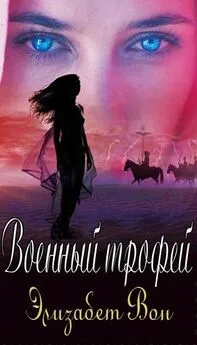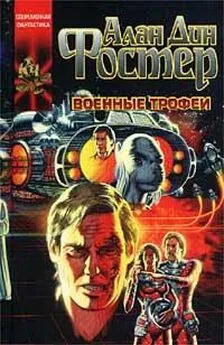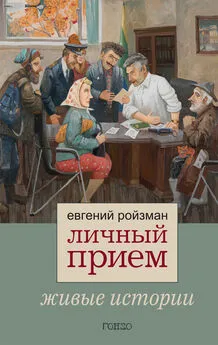Евгения Кацева - Мой личный военный трофей
- Название:Мой личный военный трофей
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2002
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгения Кацева - Мой личный военный трофей краткое содержание
Мой личный военный трофей - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Мой шеф, майор Петр Факторович, и я “курировали” немецкую прессу в советской зоне оккупации. Газеты появлялись как грибы после дождя — и органы новообразуемых партий, и полужелтые, и отраслевые, и общеполитические. Крупнейшей была существующая и доныне “Нойес Дойчланд”, созданная после слияния двух партий — Коммунистической и Социал-демократической. Слияние это произошло по втихую пересказываемой тогда, анекдотически звучавшей, но весьма правдивой версии: политсоветник Семенов запер в одной комнате Вильгельма Пика и Отто Гротеволя и сказал, что не выпустит их, пока те не договорятся. Утром они вышли со знаменитым рукопожатием, ставшим символом родившейся Социалистической Единой Партии Германии (СЕПГ).
Газета имела двух равноправных главных редакторов — Макс Нирих был от бывшей социал-демократической, Лекс Энде — от бывшей коммунистической партии. С Энде, отнюдь не ортодоксальным коммунистом, я даже подружилась, в его доме познакомилась со многими известными людьми, в том числе со знаменитым Герхардом Айслером (братом композитора Ганса Айслера); эпопея его нелегального бегства из Америки в трюме корабля от преследования маккартистов тогда долго смаковалась в газетах. Он сразу же занял видное место в политической жизни Германии, но погиб при не до конца выясненных обстоятельствах в поездке по СССР. Безвременно кончил свои дни и Лекс Энде — как член так называемой группы Франца Далема, обвиненной в начале 50-х годов в антипартийной деятельности, что стоило Далему поста члена ЦК СЕПГ, а Энде был исключен из партии и вскоре умер от инфаркта.
К “Теглихе рундшау”, органу СВАГ, мы отношения не имели. Там работали советские культурофицеры (главным редактором был сначала полковник Соколов, потом полковник Кирсанов) с помощью немецких журналистов. Это была советская газета на немецком языке, причем очень интересная. Там печатались статьи и организовывались дискуссии, которые тогда у нас на родине были бы немыслимы. “Закоперщиком” часто выступал А. Дымшиц, оставивший у немцев наиболее глубокую благодарную память. Мало кто из писателей и деятелей культуры — будь то Анна Зегерс, Бертольт Брехт или другие — не поминал его добрым словом и тогда, и впоследствии в своих воспоминаниях. Неслучайно западноберлинская газета “Дер Тагесшпигель” с облегчением отметила его отъезд: “Наконец-то этот маленький подполковник убрался”.
Очень жаль, что на родине его жизнь сложилась совсем иначе. Он вернулся в Ленинград в начале антикосмополитической кампании, сразу был взят под обстрел, обвинен во всех смертных грехах, вплоть до кражи денег Союза писателей, связанной с какой-то командировкой в 1934 году. Стремясь доказать, что он “хороший”, он стал писать хвалебные статьи о литературных поделках так называемых патриотов. Они его пощадили, но предали презрению друзья, даже знавшие его по благородным делам в Германии, — он стал, по крылатому слову Ефима Эткинда, “нерукоподаваемым”. Не из желания ли обелиться он одним из первых похвалил роман Василия Гроссмана “За правое дело”, за что долго пришлось “отмываться”? Затем поддался искреннему порыву и написал доброжелательную статью о “Матренином дворе” Солженицына. И опять получил по рукам. И снова стал “исправляться”, слившись с рьяными блюстителями идеологической чистоты. Но мало кто знает, сколько хороших книг вышло с помощью “внутренних” рецензий, которые он писал на рукописи, посылавшиеся ему из издательств в уверенной, но обманутой надежде, что он их “зарежет”. Или вспомним его поносившиеся предисловия, — например, к тому Мандельштама в “Библиотеке поэта”. Ведь именно благодаря этой статье книга, годами безнадежно лежавшая с прекрасным предисловием Эммы Герштейн, и смогла выйти. Умный, образованнейший человек с тонким вкусом, он так до конца жизни и не вырвался из чертова круга. Не на той улице он был прописан.
СНБ. Что означало “курировать” немецкую прессу? Это означало в первую очередь снабжать газеты информацией о важнейших решениях советского правительства, СВАГ, Берлинской комендатуры (во главе с генерал-майором Александром Георгиевичем Котиковым), касающихся немецкого населения — будь то приказы или решения об очередных выдачах продовольствия, угля и т.д., — предоставлять им статьи, чаще контрпропагандистского характера. Сообщения поступали, как правило, ночью — ведь и “Дома”, на родине, работали ночью, “Хозяин” ложился спать поздно. Приходилось будить главных редакторов, просить их освободить место, непременно на первой полосе, хотя газета была уже сверстана. Я легко представляла себе их неудовольствие, когда они слышали мой уже хорошо знакомый им “оккупантский” голос. Но что уж значил ночной покой, когда речь шла, скажем, о возвращении первых немецких военнопленных из Советского Союза, сообщение о котором я только что получила от Семенова?! Вернувшись уже на заре домой, я разбудила хозяйку… Правда, ее муж вернулся не с первым транспортом, но вернулся!
Не могу тут не вспомнить недобрым словом руководителя отделения ТАСС в Берлине Василия Ситникова. Он тоже жил в Вайссензее и требовал, чтобы получаемые важные информации я сперва передавала ему — для сообщения в Москву. Мне же было не до него — материал надо было срочно переводить на немецкий, дорога была каждая минута. Да и с какой стати — только потому, что ему так удобнее? Сам пошевелись. В конце концов он написал донос (1949), что в СНБ окопались космополиты Факторович и Кацева, которые ведут подрывную деятельность, и требовал выслать нас из Берлина. (Кажется, его отозвали раньше, чем уехала я.)
В Бюро у нас работали и немецкие служащие, и журналисты. В нашем отделении основными опорами были репортеры Гюнтер Кляйн и Руди Бляйл, неразрывные друзья, которых мы из-за разницы в росте называли Патом и Паташоном. Гюнтер Кляйн, бывший летчик, одним из первых перелетел в 1942 году линию фронта, стал заметной фигурой в упоминавшемся комитете “Свободная Германия”, где подружился с Левой Копелевым; он был одним из прототипов фильма Конрада Вольфа “Мама, я жив!”. После провозглашения ГДР он занимал разные высокие посты, одно время был заместителем министра культуры — ведал кино. В один из своих визитов в Москву он разыскал меня, мы стали навещать друг друга, даже семьями, дружили до самой его смерти.
При СНБ был открыт клуб журналистов, в котором мы часто устраивали вечера и пресс-конференции для аккредитованных в Берлине журналистов всех оккупационных властей и, разумеется, для немцев.
Одна из таких пресс-конференций привлекла к себе особое внимание. В 1947 году готовился (и позднее состоялся) процесс над членами 9-го карательного батальона, орудовавшего в Белоруссии и, как было доказано, уничтожившего там около 250 тысяч человек. Сперва пресс-конференция проходила у нас в клубе. Ведший следствие полковник Котляр знакомил журналистов с документами. Затем мы все на автобусах выехали в бывший концлагерь Заксенхаузен, где теперь сидели каратели. Одного за другим их вводили в зал, они рассказывали, как было дело. Рассказывали деловито, сухо, без дрожи в голосе, как они ряд за рядом выстраивали людей, лицом к вырытому ими же оврагу, расстреливали в спину, они падали, сверху посыпали хлором, на смену упавшей шеренге выстраивали новую. И так далее. “Работали” сменами. Время от времени подъезжала полевая кухня, солдаты подкреплялись кофе и бутербродами. После третьего участника один из американских журналистов закричал: “Хватит! Я не могу этого больше вынести!”.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: