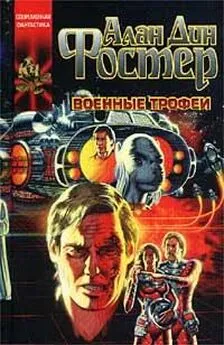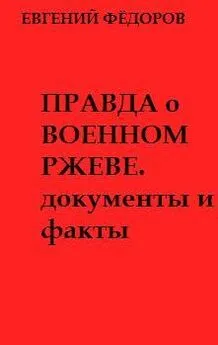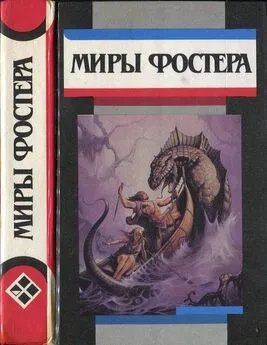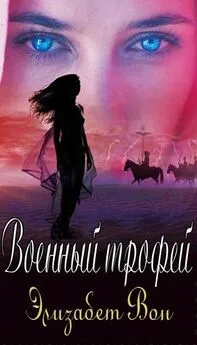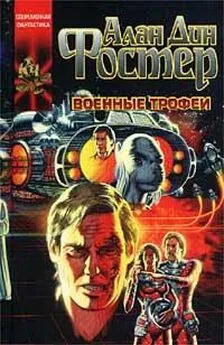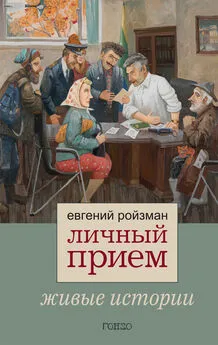Евгения Кацева - Мой личный военный трофей
- Название:Мой личный военный трофей
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2002
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгения Кацева - Мой личный военный трофей краткое содержание
Мой личный военный трофей - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
По официальным данным, в Ленинграде от холода и голода погибло около (или более) миллиона человек. Замерзшие трупы лежали прямо на улицах, штабелями громоздились в парализованных трамвайных вагонах — если полуживые родственники были еще в силах их втащить туда. Кто уж обращал внимание на предупреждения: “Граждане! При артобстреле эта сторона наиболее опасна”. (Некоторые из них сохранились по сей день, под ними лежат цветы; моя австрийская подруга привезла мне из Петербурга фотографию.) Наш милый старшина решил в Женский день 1942 года нас развлечь и прокатить на грузовике… на Волковское кладбище. Оно было усеяно незарытыми трупами, у многих были выгрызены щеки. Если вспомнить, что кошек и собак к этому времени в Ленинграде уже не было, то…
Однажды я выпросила увольнительную, чтобы помочь сестре. Как известно, в квартирах не было не только света и отопления, но и воды. Сестра жила на Малой Посадской, то есть довольно далеко от Невы, откуда надо было принести воды. Во всей коммунальной квартире ведра не было (зачем оно в городе?), из пояска мы сделали ручку для самой большой кастрюли, и я отправилась в путь. Выстояв длинную очередь к окруженной ледяными глыбами лунке, я с трудом выволокла свою “конструкцию” с полурасплесканной водой, дотащилась наконец до подъезда и… поскользнулась. Сейчас это, наверное, смешно, а тогда даже завыть у меня не было сил.
Но и радости случались. Среди моих “учеников” было несколько прибалтов — юноша и три девушки. С одной эстонкой, Леэн Кульман, я даже подружилась. Мы были ровесницы, обе изучали филологию, обе кое-как говорили по-немецки (русским она владела еще хуже). Она научила меня сотне эстонских слов (мы считали!), которые, никогда не востребованные, мирно уснули в моей памяти, и нескольким песенкам — их я почти помню.
В 42-м году ее перебросили (из упоминавшегося Лисьего Носа) в район Таллинского порта, откуда она радировала важные военные сведения, о чем я узнала много позже (равно как и ее фамилию), когда в 1965 году ей посмертно присвоили звание Героя Советского Союза, — кстати, это единственный Герой Эстонии, ее именем назвали улицу в Таллине, ей посвящали очерки и даже книгу (“Дочь Республики”), воздвигли памятник (стоит ли он еще? Вряд ли).
Но это было потом. А тогда, когда в начале января 1943 года меня вызвали к командиру части, капитану третьего ранга Подошкину, я со страхом думала: “Господи, что я опять натворила?”. Дело в том, что незадолго до этого я уже имела неприятность: к нам прибыло высокое начальство из Москвы, я как раз стояла на вахте. Они шествовали мимо меня, приветствуя по-военному; я же каждому с милой улыбкой отвечала: “Добрый день!”. Наивысший чин, вице-адмирал Воронцов, строго обратился к моему начальнику: “Что, капитан третьего ранга, рука у вашего вахтенного не поднимается?”. “Будет подниматься, товарищ вице-адмирал!” — отрапортовал Подошкин голосом, в котором слышалось по крайней мере трое суток “губы”. Но поскольку инспекция прошла удачно, я отделалась легким укором успокоившегося шефа: “Женя, Женя, как же вы меня подвели!”.
Что сулит на этот раз вызов к начальству? Я вхожу в кабинет, докладываю, кто явился “по вашему приказанию”, и застываю по стойке “смирно”. Подошкин стоя зачитывает: “Пламенный новогодний привет незабываемой девушке инструктору”, с резолюцией вице-адмирала: “Доложить старшине второй статьи Кацевой”. “Она жива, моя Линда [1] жива!” — всхлипнула я, сразу представив себе, что специально для этого привета она отправилась зимней ночью в лес, разложила свое радиохозяйство, — как же одиноко ей было… Это была предпоследняя ее шифровка, передатчик был уже запеленгован, вскоре ее схватили и расстреляли.
Спустя два десятилетия, после присвоения Леэн звания Героя, в книге о ней текст шифровки был видоизменен, дабы придать ему более патриотическое звучание: место “незабываемой девушки инструктора” заняла “незабываемая Родина”. Хотя, строго говоря, когда эта Родина могла успеть стать для молодой эстонки “незабываемой”, раз Эстония была включена в состав Советского Союза лишь в 1940 году?
Да, вот что, на всякий случай сообщаю: текст радиограммы был неоднократно опубликован: в прессе — в подлинном, в книге — в искаженном виде, — так что никакой военной тайны я здесь не выдаю.
Несколько слов об упомянутом вице-адмирале Михаиле Александровиче Воронцове. Он был последним военно-морским атташе в нашем посольстве в Германии (послом, как известно, был Деканозов). До самого начала войны он настойчиво посылал донесения о предстоящем нападении на Советский Союз, — на них, как и на донесения других информированных людей, никто, разумеется, не обращал внимания: не мог же “друг” Гитлер предать Сталина!
Михаил Воронцов был одним из последних, кто покинул Берлин, когда война разразилась. Годы спустя он навестил меня в редакции журнала “Вопросы литературы”, принес воспоминания о последних своих неделях в Берлине. Они были очень интересны, но никак не подходили для “Вопросов литературы”. Я позвонила завотделом публицистики “Знамени” и направила туда автора. Но там, вероятно, не хотели лишних хлопот с цензурой. Вскоре автор умер, что стало с рукописью — мне неизвестно. Может быть, это знает его сын — известный дипломат Юлий Михайлович Воронцов? Сейчас с публикацией проблем бы не было, но и былого интереса это, вероятно, уже не представило бы.
Германия
Начало мая 45-го. Вдоль побережья, через Кронштадт, Таллин, Кёнигсберг, Банзин до Херингсдорфа — предпоследнего места моей дислокации.
В Кёнигсберге было тихо. Войска уже прошли. Город казался вымершим. На улицах ни единой души, всюду только обрывки тряпья, осколки битой посуды. Приказ Сталина — мародеров и насильников расстреливать на месте — исполнялся, как всегда все его приказы, неукоснительно. Но несколько дней, прошедших до его издания, причинили образу нашего солдата несказанный вред. И до сих пор об этих днях ходят зловещие рассказы.
В скольких книгах, не только немецких авторов, они были описаны, порой в многократном преувеличении, словно это были не считанные дни, хоть и очень страшные, особенно для женщин, а долгие годы, годы, когда наши солдаты шли, наоборот, по родной выжженной испакощенной земле. Может быть, если бы мы сами признали и объяснили это, кошмарные легенды не получили бы такого распространения, не сеяли бы страх и ужас перед советским солдатом, зачастую затмевая принесенное им благо — мир. Многие годы эта тема была у нас под таким строгим табу, что мы не только сами не писали об этом, но вычеркивали соответствующие места в прекрасных книгах немецких писателей-антифашистов, всей душой благодарных нашей армии за разгром фашизма.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: