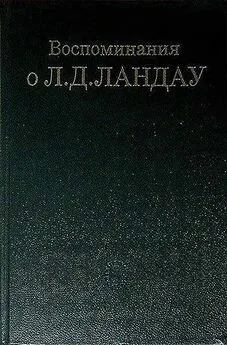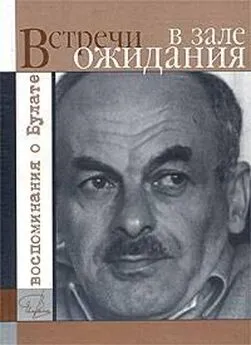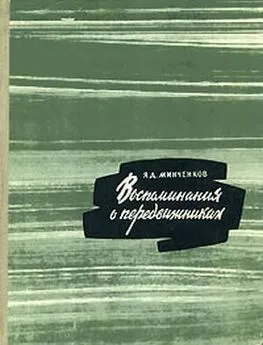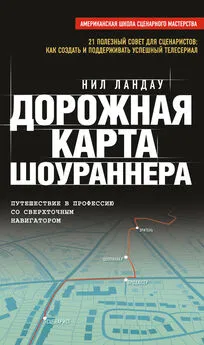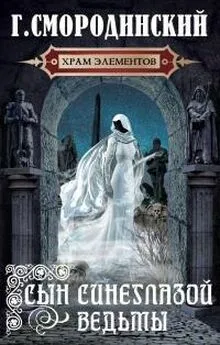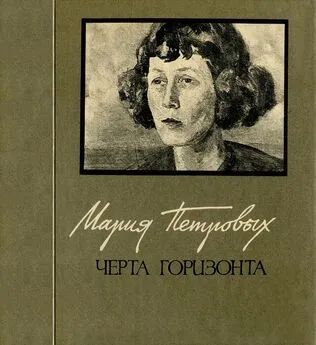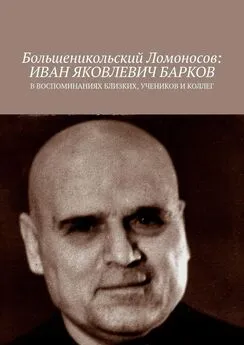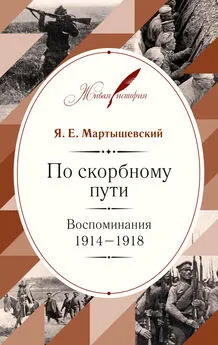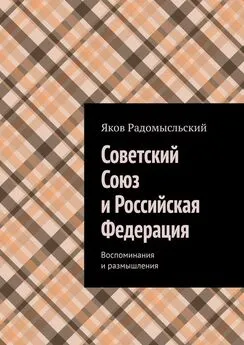Яков Смородинский - Воспоминания о Л. Д. Ландау
- Название:Воспоминания о Л. Д. Ландау
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:1988
- Город:Москва
- ISBN:5-02-000091-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Яков Смородинский - Воспоминания о Л. Д. Ландау краткое содержание
Издание рассчитано на физиков, историков науки и широкий круг читателей.
Воспоминания о Л. Д. Ландау - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Однако и «общие» замечания вовсе не обязательно содержали обидные слова. Выше я привел разговор с ним, в котором (как мне помнится, хотя я не полностью уверен в этом) он употребил слово «чепуха». Но если это и было так, то это был единственный раз, когда я услышал от него подобное слово в свой адрес. Он разговаривал со мной всегда совершенно корректно, хотя не только со своими учениками и друзьями он часто бывал оскорбительно резок даже в присутствии других лиц. Почему так случилось, почему мне так удивительно повезло?
Дау не мог особенно выделять меня из своего окружения как физика. Это очевидно. Может быть, дело было в том, что после памятного знакомства в 1935 г. я никогда не начинал с ним разговора по физике, если не чувствовал уверенности в том, что смогу выдержать шторм? Он дважды отверг мои идеи — и оба раза мягко, хотя в опровержение их и приводил (вполне корректно) лишь «общие соображения». Один раз, когда из работы получались новые уровни в системе, он сказал: «Не думаю, мне кажется, довольно тех уровней, которые мы знаем». Я не опубликовал работу, но не столько из-за этого его замечания, сколько потому, что, промучившись два месяца, не сумел устранить изводившие меня изъяны в выводе (хотя психологически замечание Дау, может быть, на меня и повлияло). Через 20 лет правильный путь, на гораздо более высоком уровне, нашел Д. А. Киржниц. В другой раз его, сделанное тоже в мягкой форме, замечание было совсем уж неубедительно («Я думаю, при высокой энергии все же не выпадет размерная константа и тогда все это неверно»). Но меня поддержал Чук, участвовавший в нашем разговоре («Дау, — сказал он, — ты непоследователен: если ты веришь своей же теории, то должен признать, что Женя прав!»). Я был уверен в своей правоте, работу опубликовал и очень рад этому.
Но и моя осторожность в выборе темы для разговора по физике — недостаточное объяснение, я думаю, дело в другом, просто мне повезло, почему-то Дау повернулся ко мне другой стороной своей личности. Я поясню это во второй части моих заметок.
В своей превосходной статье о Ландау Евгений Михайлович Лифшиц пишет, что в молодости Дау был застенчив, и это причиняло ему много страданий, но с годами благодаря столь характерной для него самодисциплинированности и чувству долга перед самим собой сумел «воспитать себя и превратить в человека с редкой способностью — умением быть счастливым» [74] Лифшиц Е. М. Лев Давидович Ландау (1908—1968) // Ландау Л. Д. Собр. тр. М.: Наука, 1969. Т. 2. С. 430.
.
Каким же путем он достиг этого? Я решусь высказать утверждение, которое может показаться чрезмерным: он создал себе образ, маску и вжился в нее так, что она стала для него естественной. К сожалению, эта маска не была пассивной, она управляла его поступками, его высказываниями. Она-то и диктовала ему резкость поведения, иногда вызывавшую недоумение (это и есть та дополнительная психологическая причина несдержанности Ландау в высказываниях, о которой я говорил выше).
Но бывало, что Ландау снимал эту маску, и обнаруживалась другая личность, другой Дау — мягкий, чувствительный. Таким я наблюдал его неоднократно. Но это никогда не происходило «на людях» — лишь в присутствии одного-двух человек, которые были связаны с ним чем-либо кроме физики, или просто близких ему. Сказанное означает, что я не считаю просто красивой фразой слова Е. М. Лифшица: «За его внешней резкостью скрывалась научная беспристрастность, большое человеческое сердце и человеческая доброта» [75] Там же. С. 434.
(впрочем, я бы заменил слово «беспристрастность» словом «честность» — пристрастность в нем была, но я не считаю это отрицательным свойством). Это означает далее, что я понимаю и принимаю слова Петра Леонидовича Капицы: «Тем, кто знал Ландау близко, было известно, что за этой резкостью в суждениях, по существу, скрывался очень добрый и отзывчивый человек» [76] Капица П. Л. Лев Давидович Ландау // Эксперимент. Теория. Практика. 3-е изд. М.: Наука, 1981. С. 389.
. Но маска и здесь играла свою роль, принося вред самим этим качествам.
Собственно говоря, застенчивость, прикрывающаяся вызовом, задиристостью, не такое уж необычное явление (особенно у подростков и вообще молодых людей). У Дау они были (сознательно?) доведены до последовательной цельности. Вызов, резкость, насмешливость, даже разухабистость, мальчишеское поведение были необходимыми элементами образа, в который он вошел и который прежде всего был виден тем, с кем он контактировал, особенно в более молодые годы. Хотя и в меньшей мере, они сохранились у него до конца.
Бывало, расслабившись в момент усталости, или говоря о чем-либо лично для него серьезном, или рассуждая, например, о стихах (но только не «в компании»!), читая на память стихи, которые он любил (но не тогда, когда он читал их на каком-либо иностранном языке, чтобы произвести впечатление, по-мальчишески покрасоваться, щегольнуть памятью и знанием языка!), слушая стихи (бывало, я читал ему в пятидесятые годы Мандельштама и Пастернака, кого-то еще и он тут же записывал особенно ему понравившиеся)вот в таких случаях это был другой Ландау.
Не было, разумеется, никакой нужды в маске и тогда, когда Ландау читал лекцию или доклад. Владение материалом и как следствие владение аудиторией были полными. В речи и движениях не было ни резкости, ни напряжения, лишь серьезность. Естественность была подлинная, не наигранная.
Я закончу одним особенно запомнившимся мне эпизодом, который вновь, как и начало этих заметок, связан с Румером.
Как известно, в 1938 г. Ландау и Румер вместе «перешли с физического листа римановой поверхности на нефизический». Благодаря гражданской смелости, уму и настойчивости Петра Леонидовича Капицы уже через год Ландау вернулся домой. Румер же вынырнул на поверхность только через десять лет в далеком Енисейске (в то время это была несусветная глушь, хотя и с пединститутом, в котором он стал работать). Он прожил там в качестве неполноценного гражданина три года— с женой и родившимся там же ребенком. Тогдашний президент Академии наук Сергей Иванович Вавилов сумел добиться перевода Румера в Новосибирск. Но только это произошло, не успев обеспечить Румера работой, Вавилов в конце января 1951 г. скончался, и Румер с семьей остался «в подвешенном состоянии»: без работы, существуя почти целиком на средства друзей.
Случилось так, что летом того же года я летел в командировку в Якутск. В то время на этом маршруте самолет делал остановку на ночь в Новосибирске. Когда это объявили, я ахнул. Поехал в город, бросился разыскивать Румера, с трудом, после разных приключений, нашел его по телефону у каких-то тамошних его друзей. Мы встретились на бульваре у центральной площади, расцеловались и стали строить планы помощи ему. Румер тогда был страстно увлечен своей работой по «пяти-оптике» (вариант единой теории поля), которую он начал, еще пребывая в заключении, и считал ее столь важной, что работу над пей рассматривал как достаточное основание для перевода в Москву.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: