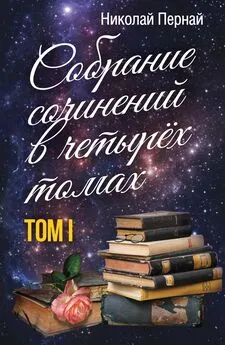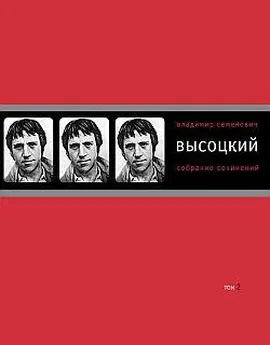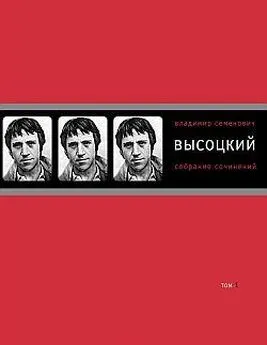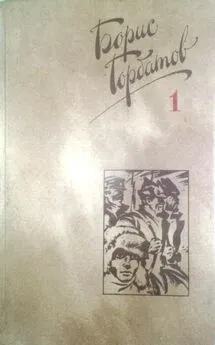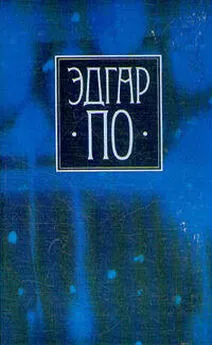Николай Пернай - Собрание сочинений в четырех томах. Том 1
- Название:Собрание сочинений в четырех томах. Том 1
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2022
- Город:Москва
- ISBN:978-5-00180-735-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Пернай - Собрание сочинений в четырех томах. Том 1 краткое содержание
Приводятся отрывки статей из коллективных сборников «Живая лицейская педагогика» (1999-2009). Также публикуются части 1 и 2 книги «Пора!» («Пора учиться любви, или Как воспитать Homo amoris» – 2021).
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Собрание сочинений в четырех томах. Том 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Однажды в декабре, когда я зашел в класс столярного дела, учитель труда пожаловался, что кончаются гвозди на 50 и 100 мм, и скоро нечем будет работать. Мои попытки найти гвозди нужных размеров на базе леспромхоза не увенчались успехом. Делать нечего, надо было ехать в город. Я воспользовался тем, что меня срочно вызывали на какое-то совещание директоров, и поехал в Братск. После совещания попал на межрайбазу и купил два ящика гвоздей. Но встал вопрос: как довезти ящики, каждый из которых весил по 80 кг, до моей школы, находящейся за морем? Правда, море уже «стало» и зимник был пробит, однако никаких попутных машин не было и не предвиделось. Выбора не было, и я решил ехать поездом до Видима, а там будь, что будет. Кое-как под ругань проводника загрузил на станции Анзёби тяжеленные ящики в тамбур пассажирского вагона; а на станции Видим, обливаясь потом, выгрузил их. Теперь надо было найти попутную машину до Заярска, а потом из Заярска по зимнику через залив – до своего поселка. Я долго бродил по Видиму, но найти машину не мог. Кто-то посоветовал идти к «тунеядцам». Так называли людей, высланных из европейской части Союза за «уклонение от трудовой деятельности», которые жили в поселке Чистая Поляна.
Я купил бутылку водки, самый ходовой товар для «бартерных» расчетов, и, пройдя по зимней дороге километра два, пришел в Чистую Поляну. Поселенцы-«тунеядцы» жили в новых добротных брусовых избах. В одну из них, возле которой стоял ГАЗ-66, я зашел. В избе было жарко натоплено, на койках в кучах тряпья в верхней одежде лежало трое не то мужчин, не то женщин, и еще трое сидели у плиты, на которой в большой консервной банке что-то булькало. Они вскользь посмотрели на меня равнодушными оловянными глазами и снова погрузились в созерцание булькающего варева. По запаху я понял, что варят они чифирь и ждут, когда варево дойдет до кондиции. Мои попытки привести кого-либо из чифиристов в здравое состояние не дали никакого результата. Диалога не получилось.
Пошел я дальше, зашел еще в две избы: там хозяева, несмотря на то, что время было послеобеденное, продолжали ночевать. В отчаянии я уже стал ругать себя за то, что связался с проклятыми ящиками. Другие директора, говорил я себе, приезжают на совещания и уезжают с легкими портфельчиками, а тебе нужно обязательно тащиться с гвоздями. И вдруг…
Бог всегда приходит на помощь страждущим и ищущим в последний момент – в момент крайнего отчаяния. В это я всегда верил.
Вдруг у одного из домов я увидел порожний лесовоз с работающим двигателем. Как же велико было мое счастье, когда выяснилось, что шофер лесовоза собирается ехать в Заярск! Дальше, я теперь был уверен, всё будет хорошо. Мы вернулись к станции, погрузили на открытую переднюю площадку ящики, привязали их проволокой, я взгромоздился на площадку сам (в кабине ехала беременная женщина), и мы поехали. Дорога была неблизкой. Пару раз останавливались: шофер проверял, живой ли у него седок на верхней площадке, и я, пользуясь передышкой, руками обмахивал себя, так как снег летел на меня из-под колес и облепливал с головы до пят. Один раз остановились у полуразобранного мостика, который чинили какие-то люди в одинаковых серых робах. Оказалось, это расконвоированные из ближнего лагеря. Они попросили у нас курево, и мы с шофером поделились, чем могли. Постояли. Покурили вместе с зэками. Выглядели те бодро и были вполне дружелюбны.
Наконец, приехали в Заярск и высадили беременную женщину. Дальше до Степановского леспромхоза мне надо было продвигаться по замерзшему морю, но и тут (везет же рисковым ребятам!), когда я стал рассчитываться с шофером и отдал ему поллитровку, он вдруг весело сказал:
– А садись-ка, учитель, в кабину. Так и быть, довезу я тебя до твоей школы.
Я мигом вскочил в кабину, и машина, взревев двигателем, рванулась в промерзшую ночную мглу…
Через полчаса я уже передавал драгоценные гвозди моему учителю труда.
Школьные будни
Мое второе директорство в Братской школе № 9 с 1963 по 1967 годы было менее счастливым и менее удачливым, чем первое, хотя уроков, особенно из неудач, было извлечено достаточно много.
Школа была небольшая, около 600 учащихся. Коллектив учителей подобрался хороший и работящий. Было много молодых.
Люди внешне были приветливы и радушны. Однако по каким-то, поначалу для меня не очень понятным причинам, с авторитетом не только личности, но и должности директора здесь не очень считались. Многие говорили, что это было связано с тем, что мой предшественник был слишком говорливым и директорскими делами фактически не занимался. Среди педагогов постарше считалось нормой время от времени осаживать директора в рамках «критики», широко распространенной тогда в партийных кругах. Партийная прослойка в школе была значительной, а поскольку я был беспартийным, то считалось, что мои распоряжения и действия, как человека молодого и якобы чересчур горячего, надо систематически корректировать.
Сначала, как в Степановской школе, я пытался создать обстановку доверительности и равноправного партнерства между членами коллектива. Но довольно скоро выяснилось, что не все идут на контакт, некоторые не желают впускать в свой мир никого; были, к сожалению, и такие, с кем откровенничать было просто опасно. Случалось, и нередко, так, что мои предложения подвергались уничижительным комментариям – дескать, блажит наш молодой директор. Изредка эти комментарии доносила до меня «сарафанная почта», иногда, плача в подушку, что-то сообщала жена Света, с которой мы тогда работали вместе.
Скорее, интуитивно, чем рассудком, я понимал, что демократический стиль взаимоотношений с такими людьми вряд ли уместен. Однако, как только я пробовал действовать жёстче, старшие партийные товарищи тут же начинали меня поправлять, упрекая в «самоуправстве». Позднее я понял, что в тех условиях от меня, видимо, ждали установления либерального стиля управления и невмешательства в учебный процесс. То есть кому-то хотелось, чтобы я стал этаким зиц-директором, который всеми вроде руководит, но никуда не лезет и ни во что не вмешивается. Безусловно, такая позиция меня не могла устроить. Я упорно искал способы сплочения коллектива и улучшения, как тогда говорили, «морально-психологического климата». И гнул свою линию. В результате время от времени стали возникать очаги сопротивления со стороны, как ни странно, моего первого заместителя – завуча Ольги Васильевны К. Возникали бестолковые перепалки с ней и её окружением. Ольга Васильевна, в отличие от меня, неплохо разбиралась в людях и умело ими манипулировала. До моего прихода в школу она, по сути, была неформальным лидером коллектива.
Казалось бы, директор и завуч должны быть единой командой и действовать только вместе, только в одном направления. Но единства не было. Была бесплодная борьба амбиций. Мы были слишком разными людьми и по возрасту – она была почти вдвое старше меня, – и по психологическому складу. Мы были типичными антиподами, психологически не совместимыми.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: