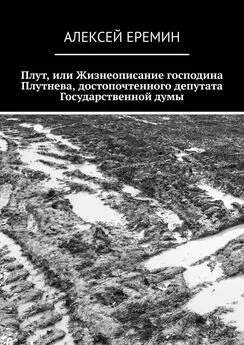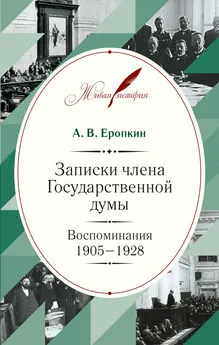Иосиф Гессен - В двух веках. Жизненный отчет российского государственного и политического деятеля, члена Второй Государственной думы
- Название:В двух веках. Жизненный отчет российского государственного и политического деятеля, члена Второй Государственной думы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2022
- Город:Москва
- ISBN:978-5-227-09863-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иосиф Гессен - В двух веках. Жизненный отчет российского государственного и политического деятеля, члена Второй Государственной думы краткое содержание
Переломные события российской истории не просто разворачивались у него перед глазами, он был их участником. И когда И. В. Гессен решил написать воспоминания, подводя итоги своей жизни, ему было о чем рассказать. Вот только оценить то фиаско, которое потерпела его партия в 1917 году, он так и не смог. Впрочем, честный рассказ о прошлом сам дает ответ на вопрос, почему кадеты были «выброшены с корабля истории».
В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.
В двух веках. Жизненный отчет российского государственного и политического деятеля, члена Второй Государственной думы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Внутренней вражды в ученическом лагере не было, связующим цементом была ненависть к общему врагу, и в помощи против врага никогда отказа не было. А о доносительстве, конечно, и речи не могло быть. Принцип «товарищества» над всем неограниченно доминировал и приобретал уродливые формы, заставляя, по крайности – пассивно, принимать участие в таких деяниях, которые претили разуму и чувству. Но близости, приятельства у меня ни с кем не было в этой гимназии, не помню, чтобы вне ее с кем-то из товарищей я встречался.
В школе мы проводили от 8 с половиной утра до 2 часов: на первом плане стоял латинский язык, которому отведено было 8 часов в неделю, русскому – 6 часов, 4 посвящались арифметике, 2 – чистописанию, 2 – географии и 2 – Закону Божию (евреи были в эти часы свободны). После первых трех уроков была большая перемена в полчаса, раз в неделю занятая гимнастикой (вернее, шагистикой), а в прочие дни предоставлявшая свободу действий. Переменами пользовались, чтобы сбегать за ворота в съестную лавочку Менделя, жирного еврея с сине-черной курчавой бородой, охотно отпускавшего и в долг свои бутерброды с окаменевшей паюсной икрой, обильно политой для смягчения уксусом. Но важнее было после бутербродов – глубоко до головокружения затянуться папиросой. Здесь можно было предаваться этому удовольствию безмятежно – в противоположность весьма примитивной уборной («нужник»), куда то и дело заглядывал огромный, налитой помощник классного наставника Карл Иванович Фохт и, раздосадованный, что благодаря хорошей организации предупреждения ему не удавалось курильщиков накрыть с поличным, заставлял учеников дышать себе в лицо и больно ущемлял волосы, чтобы преодолеть сопротивление.
Главный предмет – латинскую грамоту – преподавал в первых трех классах сам директор Аким Константинович Циммерман, приземистый человек лет шестидесяти, с большим отвислым животом и отвислой губой. Не смел бы я утверждать, что он владел членораздельной речью: мы слышали только отрывистые восклицания, прерываемые громким выдыханием: незавидно, вон, в карцер и т. п. Учеников он не называл по фамилии, каждый имел свое прозвище: тигр, собака, дубина, остолоп, книжица… и т. д. К неуспевающим он вообще обращался только коллективно: «Гуща, вали!» Перед его уроком в класс входил другой помощник классного наставника Сила (больше мне не приходилось слышать такое имя) Иванович Добровольский, тонкий, злобный, с редкой русой бороденкой, олицетворенный Молчалин, и производил перекличку. С небольшим опозданием являлся директор, всегда в пальто, накинутом на плечи. Сила Иванович подобострастно снимал с начальственных плеч пальто, а затем еле слышным ровным голосом докладывал, все ли ученики на месте и не было ли каких-либо происшествий. Если все было благополучно, директор шумно отдувался и садился на кафедру, а Сила Иванович, пятясь, удалялся. Пытливым оком Циммерман обозревал класс, стараясь по выражению лиц узнать, кто не приготовил урока, который обычно состоял в том, чтобы наизусть затвердить расположенные белыми стихами существительные, глаголы, представляющие то или иное отклонение от общего правила и т. д. Бессмысленная зубрежка словно нарочно была придумана, чтобы затруднить усвоение латинской грамоты и поселить непобедимое отвращение к ней.
Если наблюдательность директора обманулась, и вызванный отвечал удовлетворительно, он отпускался на место с миром: «Незавидно! Садись!» Но если жертва вызвана была удачно, восклицания становились все крикливее: «Не знаешь, осел, лентяй, звать, в карцер, вон!» Роковое слово «звать» обозначало вызвать отца жертвы для назидания, и это, конечно, было для ученика максимально неприятным. Когда раздавалось восклицание: «звать!», один из учеников, на то уполномоченный, отмечал фамилию жертвы в своей записной книжке (отсюда и прозвище «книжица»), чтобы после урока передать приказ Силе Ивановичу. Если же негодование переливалось через край и выражалось формулой: «сильно звать!», то нужно было немедленно призвать в класс Силу Ивановича, которому директор передавал приказание непосредственно.
Иногда, при более благодушном настроении, директор спрашивал плохо затвердившего урок, есть ли у него репетитор, и, если таковым оказывался ученик старших классов, репетитора тут же «звали» в класс. Он появлялся, и старик весьма вежливо, обращаясь на «вы», указывал ему на плохую подготовку и необходимость подтянуть лентяя. Репетитор почтительно обещал приложить свои старания. Однажды случилось, что явившийся репетитор сам не по форме был одет, и, окончив вежливый разговор, директор сразу резко переменил тон: «Ну, ты, репетитор, а теперь ты-ка нам скажи, почему ты без галстука? Звать и в карцер!» Тут как тут Сила Иванович, и злополучный репетитор отправляется в темницу.
Бывало, что вызванные отцы и матери десятками собирались в приемной, а вышедший к ним директор терялся и не знал, что сказать, ибо уже успел позабыть, в чем тот или другой провинился, да и вообще фамилии учеников безнадежно путались в голове его с данными прозвищами. В число вызванных случилось попасть и отцу моему. Пыхтя и тщетно силясь вспомнить, что нужно сказать, директор вдруг буркнул: «Сын ваш, да, да, возьмите его, женить пора». На замечание отца, что сын самый младший в классе, директор, нимало не смущаясь, ответил: «Да, да, малец славный, подтянуть нужно».
Четыре раза в году давалось генеральное представление, которое самим директором так и расчленялось на «драму, комедию, водевиль, дивертисмент». Это происходило перед окончанием триместра, когда ученикам выставлялись средние баллы за три месяца. Недели за две, за три до этого директор провозглашал, что начинается «испытание», и приглашал «добровольцев». Выходили, по два, лучшие ученики, наиболее в себе уверенные, и начиналась детальнейшая проверка знаний всего пройденного. Таких находилось не больше пяти-шести: не дай бог добровольцу на чем-нибудь сорваться, ему грозило новое унизительное прозвище и утрата репутации навсегда. Когда с добровольцами было покончено, директор сам вызывал, начиная с лучших, и чем дальше, тем все реже слышалась высшая похвала: «незавидно!», и тем чаще и все крикливее раздавалось: «звать, сильно звать»! В последний день «испытания» директор победоносно озирал класс и зычным протяжным голосом восклицал: «Гуща, вали!»
Выходили человек десять–пятнадцать и тесным кольцом окружали кафедру. Обращаясь к ближайшему, директор задавал вопрос, но, не ожидая ответа, кричал: «Не знаешь, пшел!» А затем к следующему: «Ну, ты! Не знаешь, пшел!» и т. д. В несколько минут испытание гущи было закончено криком: «Всех звать, сильно звать!»
Раз попавши в гущу, выбиться из этой касты было уже невозможно, члены ее были как бы обреченные. За все время ни один ученик не получил отметки «5». Этот высший балл он, очевидно, присваивал мысленно себе самому и действительно знал назубок программу первых трех классов, как нищий знает свой единственный грош.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
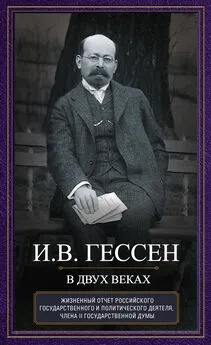

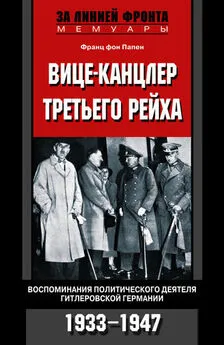
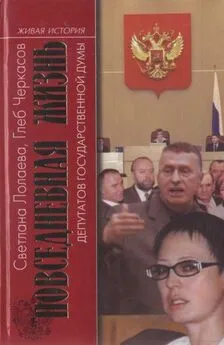
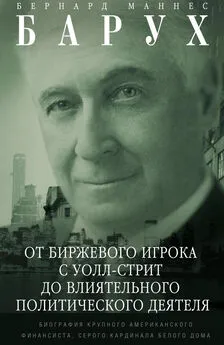
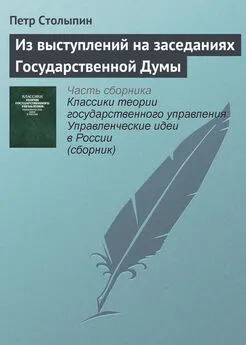
![Аполлон Еропкин - Записки члена Государственной думы. Воспоминания. 1905-1928 [litres]](/books/1144284/apollon-eropkin-zapiski-chlena-gosudarstvennoj-dumy-vospominaniya-1905-1928-litres.webp)