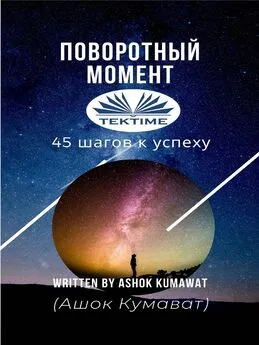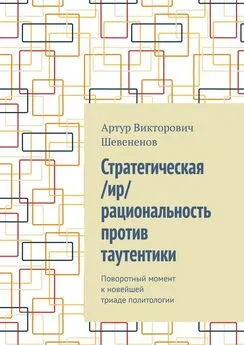Александр Керенский - Россия в поворотный момент истории
- Название:Россия в поворотный момент истории
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2022
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9524-5652-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Керенский - Россия в поворотный момент истории краткое содержание
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Россия в поворотный момент истории - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Хотя Александр Ульянов лишь мимолетно вошел в мою жизнь, он оставил неизгладимое впечатление – не как человек, а как зловещая угроза, сильно подействовавшая на мое детское воображение. При одном лишь упоминании его имени перед глазами вставало зрелище таинственной кареты с опущенными зелеными шторами, проезжавшей по ночам по городу, увозя людей в неизвестность по приказу сурового отца Сони – маленькой дочери шефа жандармов Симбирской губернии, которую иногда приводили танцевать с нами. Раскрытие заговора в Петербурге и арест сына видного симбирского чиновника привели к репрессиям и арестам в городе, которые обычно проводились по ночам. Тревожные разговоры взрослых об этих ужасных событиях доходили и до нашей детской, а благодаря близкому знакомству наших родителей с Ульяновыми мы вскоре узнали о казни их талантливого сына. Таким было мое первое знакомство с революционным движением.
Я родился 22 апреля 1881 г. Мой отец, Федор Михайлович Керенский, в то время был директором мужской гимназии и средней школы для девочек. Его карьера была довольно необычной. Он родился в 1842 г. в семье бедного приходского священника в Керенском [5] Наша фамилия и название соответствующего города произошли от имени речки Керенка. Ударение следует делать на первом слоге (Керенский), а не на втором, как зачастую неправильно произносят и в России, и за границей.
уезде Пензенской губернии. В те дни духовенство являлось отдельным сословием с собственными вековыми традициями и обычаями. Дети священников даже ходили в особые школы. Мой отец закончил такую школу и поступил в Пензенскую духовную семинарию. После революции 1848 г. в Западной Европе доступ в российские университеты был закрыт для всех, кроме детей дворян, но при Александре II такая социальная дискриминация была отменена, и страстное желание моего отца учиться в университете в конце концов исполнилось. Вследствие бедности какое-то время он был вынужден работать учителем в обычной приходской школе, но, накопив этим тяжелым трудом достаточно денег, поступил в Казанский университет – в то время один из лучших университетов в России. Подобно многим будущим священникам своего поколения он не имел серьезной склонности к духовной стезе и, не желая идти по стопам отца, всецело посвятил себя изучению истории и классической филологии. Его выдающийся педагогический талант вскоре был признан и оценен. В 30-летнем возрасте отец получил должность инспектора средней школы, а в 37 лет был назначен директором школы в Вятке. Два года спустя он стал заведовать двумя школами для мальчиков и девочек в Симбирске [6] См. приложение в конце главы.
.
Мои родители познакомились в Казани, где отец после окончания университета получил место преподавателя. Моя мать, одна из его учениц, была дочерью начальника топографического отдела при штабе Казанского военного округа, а по материнской линии – внучкой крепостного, заплатившего за себя выкуп и ставшего процветающим московским купцом. Мать унаследовала от него значительное состояние.
Самые ранние мои воспоминания сливаются в одну картину счастливой жизни в родительском доме. Длинный коридор разделял дом на мир взрослых и мир детей. Двух старших сестер, ходивших в школу, воспитывала гувернантка-француженка. За младшими же детьми присматривала няня, Екатерина Сергеевна Сучкова. Она не знала грамоты и в юности была крепостной. Обязанности она выполняла те же, что и всякая няня: будила нас утром, одевала, кормила завтраком, водила гулять и играла с нами. Ночью, укладывая нас спать, особенно тщательно она следила за тем, расстегнуты ли воротники наших длинных ночных рубашек, «чтобы выпустить злых духов», как она выражалась. Перед сном она рассказывала нам сказки, а когда мы подросли, порой вспоминала крепостную жизнь. Няня делила вместе с нами просторную детскую. Ее собственный угол был любовно украшен иконами, и по ночам масляная лампадка, которую няня всегда зажигала, бросала мягкий свет на аскетические лица ее любимых святых. Зимой няня ложилась спать вместе с нами, и тогда сквозь полуприкрытые веки я следил, как она стоит на коленях перед иконами, шепча пылкие молитвы. Ничего особенно замечательного в ней не было, она не обладала ни проницательным умом, ни обширными знаниями, но для нас, детей, она была всем.
В наших повседневных детских занятиях и развлечениях мать была ближе к нам, чем отец. Тот никогда не вмешивался в распорядок детской. В нашем детском сознании он стоял в стороне, как высшее существо, к которому няня и мать обращались только в экстренных случаях. Как правило, порядок легко восстанавливался угрозой: «Вот погоди, отец тебя проучит!», хотя отец никогда не прибегал к физическим наказаниям – он только говорил с нами и пытался донести до нас суть дурного поступка. Мать любила посидеть рядом с нами, пока мы утром пили молоко. Она расспрашивала о наших делах и мягко журила нас, если в том была необходимость. Перед сном она заходила в детскую, чтобы перекрестить нас и поцеловать на ночь. С самого раннего детства мы молились по утрам и готовясь ко сну.
После утренней прогулки с няней мать нередко звала нас к себе в комнату. Ей не приходилось просить дважды. Мы знали, что нам разрешат уютно устроиться рядом с ней, пока она читала нам вслух или что-нибудь рассказывала. Она читала не только сказки, но и стихотворения, былины про русских богатырей и книги по русской истории. Тем самым она приучала нас не только слушать, но и читать самим. Не могу вспомнить, когда мать впервые прочла нам Евангелие, впрочем, и религиозной назидательности в этом чтении не было. Мать не пыталась вбить религиозные догмы нам в голову. Она просто читала и рассказывала о жизни и проповедях Иисуса.
Христианским обрядам нас учила няня. Например, никогда не забуду одно чудесное весеннее утро, когда мы отправились на обычную прогулку. После долгой суровой зимы по Волге поплыли первые суда. Из местной тюрьмы на причал вели группу заключенных, приговоренных к ссылке в Сибирь. За мрачной процессией, охраняемой конвоем солдат, следовала повозка, полная детей и женщин. Нас, детей, узники пугали своими наполовину обритыми головами и звенящими кандалами, и поэтому при виде их мы с братом бросились бежать.
– Да что это с вами? – окликнула нас няня. – Неужто вы боитесь, что они на вас набросятся? Лучше бы пожалели этих бедняг! Разве нам судить их и осуждать? Будьте к ним милосердны Христа ради! – Обращаясь ко мне, она сказала: – Вот, Саша, я куплю калач [7] Когда заключенных вели по улицам, сострадавшие им люди подавали милостыню или покупали для них калачи, поэтому рядом с партиями осужденных всегда шло несколько торговцев калачами.
, а ты подойди к тому солдату, что идет впереди, и попроси разрешения отдать калач этим несчастным. И они будут рады, и у тебя сразу станет легче на душе.
Интервал:
Закладка:
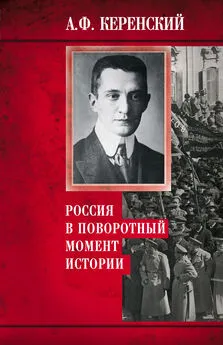

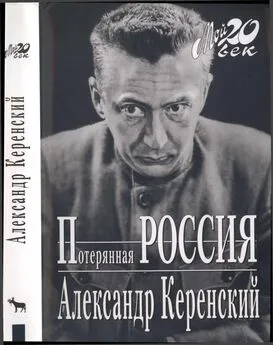
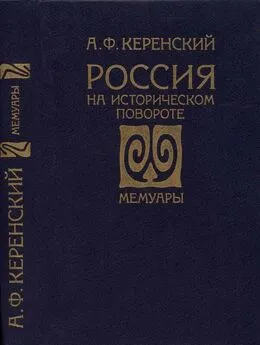
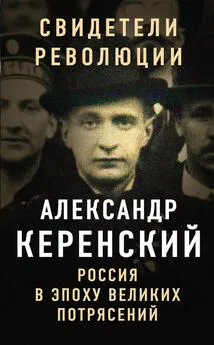
![Александр Керенский - Россия в эпоху великих потрясений [litres]](/books/1057836/aleksandr-kerenskij-rossiya-v-epohu-velikih-potryase.webp)
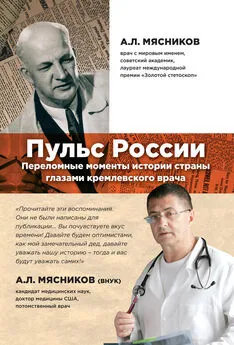
![Александр Бушков - Кто в России не ворует. Криминальная история XVIII–XIX веков [litres]](/books/1144744/aleksandr-bushkov-kto-v-rossii-ne-voruet-kriminal.webp)