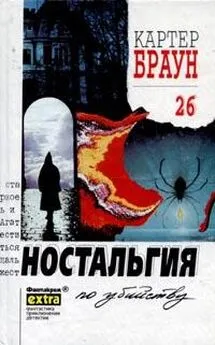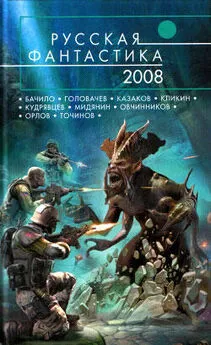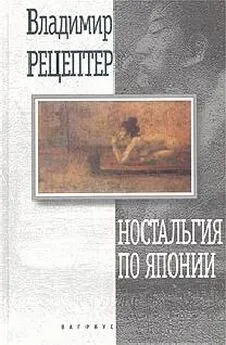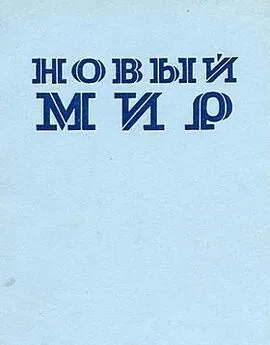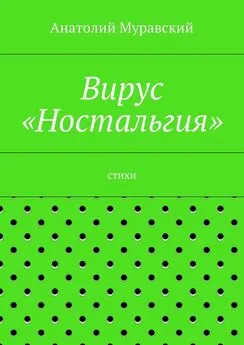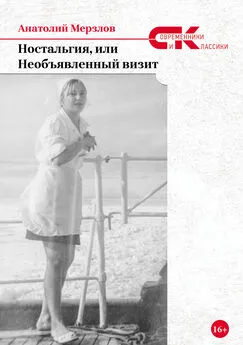Анатолий Стожаров - Ностальгия по Северам
- Название:Ностальгия по Северам
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2018
- Город:Салехард
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Стожаров - Ностальгия по Северам краткое содержание
Ностальгия по Северам - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Хотя он – Т Ойво Яптокович Салинд Ер!
Поэтому всех нас по приезду усаживали за стол и просили написать все ударения в регионе – селения, речки, имена и фамилии.
Существовал целый штат контроля, все ошибки, неточности и ударения фиксировались и публиковались в ежедневных обзорах.
Нельзя было сказать «стратэгический бомбардировщик», он – стратегический! Чувствуете разницу?
Ну а в дикторы попадал народ совершенно разный.
Глеб – из бывших артистов, он рассказывал, как к нему поздно вечером, после спектакля, заходил знаменитый Борис Ливанов.
– Кто там?
– Это я, Бен Ливанов!
Был диктор с образованием – институт путей сообщения. Злые языки называли его «железнодорожником».
Главное, нужно было одно – голос, богатый, с обертонами, узнаваемый. Безупречная дикция.
И нужно чувствовать слово. Звучащее слово. Вот и всё.
Периодически «Гостелерадио» проводило конкурсы дикторов. Вот так они туда и попадали.
И Ольга Высоцкая рассказывала об одном из них: «Не понимаю, почему взяли этого?.. Вот же голос… сказка… заслушаешься».
Ей отвечает художественный руководитель московской группы дикторов Владимир Всеволодов (нам с Тодором повезло, Глеб приболел, и неделю он с нами занимался! Легенда!): «Ольга Сергеевна! Это же диктор! Мы взяли его потому. Вот представьте. Утро. «Говорит Москва… семь часов… погода.» Все четко, красиво и спокойно… Я собираюсь, пью кофе… и вовремя иду на работу! А теперь представьте второго. «Говорит Москва!..» Голос – сказка. Я заслушался. И что? Брился – порезался, яичница подгорела, кофе убежал… И я опоздал на работу!»
Это точно. Диктор приходил в дом с утра. И становился частью жизни.
Всего я проработал диктором радио десяток лет.
Третью категорию мне записали в трудовую при приеме на работу, вторую я получил лет через пять. В принципе это негласный потолок. Высшую категорию получали только москвичи. Ну, может быть, Питер. Первая категория – это областные центры. В Тюмени – это Витя Гвоздовский. Все остальные – максимум вторая.
Под занавес я-таки пробился в первую категорию.
В 1986 году еще раз попал на аналогичные курсы, но уже в Останкино.
Всё. Это была столица телевидения. Старая гвардия радио ушла со сцены, начали появляться диджеи, ведущие с кашей во рту, картавые комментаторы.
И что сейчас радио?
Универ
В Советском Союзе была лучшая в мире система образования. Расхожая фраза. Но, похоже, и правда, по крайней мере, в шестидесятые годы.
Всё начиналось со школы. В родном волжском селе Усолье была только семилетка. Десятилетка – в райцентре.
Зато нашу школу в свое время открывал инспектор народных училищ, действительный статский советник Илья Николаевич Ульянов. Да, да, отец дедушки Ленина! Во как!
И школа соответствовала. Во всяком случае, я и по сей день пишу без ошибок.
Но главное – это, конечно, чтение. «Робинзона Крузо» я прочитал уже в третьем классе. В четвертом – «Всадника без головы». М. Рида читал я под одеялом с фонариком. Мать ругалась – глаза испортишь.
В следующем году появился сказочный шеститомник Майн Рида, красные обложки с золотым тиснением. «Белый вождь», «Квартеронка» и так далее. Тома ходили из дома в дом.
А кто помнит Луи Буссенара «Капитан Сорвиголова»? Я уж молчу про великого «Наследника из Калькутты»!
Какие были издания – со словариком иностранных слов и терминов, картами, схемами парусного вооружения кораблей! Я и сейчас отличу стаксель от лиселя.
Ну и, конечно, «Три мушкетера»! Из подходящей дощечки строгались шпаги, и мы разыгрывали целые спектакли. Я был Атосом.
Прав был Владимир Высоцкий – если ты стал толковым человеком, значит, нужные книги в детстве читал.
После семилетки я пошел в техникум, где работал отец. Сельскохозяйственный, а что делать. Не в Шигоны же ездить в десятилетку. Пятнадцать километров. В техникуме всё было по-взрослому, давали даже начала математического анализа, отец преподавал профильные детали машин и сопромат.
Колхозник из меня получался хреновый, и отец каким-то чудом устроил меня в Саранск. Там жил его младший брат, дядя Володя.
В шестьдесят втором году вовсю шел переход к одиннадцатилетней системе образования, и в 14-й школе Саранска из самых нетерпеливых был сформирован выпускной десятый класс. Вот в него я и попал. Подкидыш.
А посмотрите, какие были ребята!
Мой одногодок ленинградец (не могу назвать его питерским) Михаил Веллер писал:
«Мы были, были!.. Мы, старперы, несостоявшееся поколение, дети победителей величайшей из войн, волна демографического взрыва – сорок шестой-пятидесятый года рождения, самое многочисленное поколение за всю историю страны.
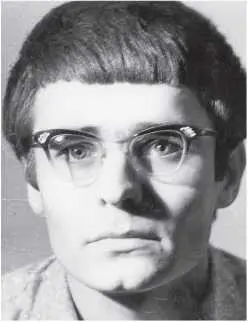
КГУ, физфак, 2-й курс,
1964 год

10-й класс, автор – в третьем ряду крайний слева
Нам было по пятнадцать, мы были юны, стройны, красивы, полны сил и веры: читали Евтушенко, читали Вознесенского, переписывали «Пилигримов» Бродского. Мало знали, еще меньше понимали, но верить умели, это тоже было у нас в крови, – нет, сомневались, издевались, но – верили. Что было, то было – верили».
Да, Саранск мне определил очень многое. И самое главное – уровень.
Пять медалей в классе – две золотые и три серебряные. Одна моя.
Впереди был УНИВЕР. Вот как я поехал поступать в МГУ? Московский государственный университет. Пацан, шестнадцать лет, колхоз.
Тоже показательно, кстати. А равенство было! И куда – на физфак!
Я ж не знал, что я гуманитарий, и слова-то такого не было в ходу.
И опять же: «что-то физики в почете, что-то лирики в загоне!»
Приехал я к шапошному разбору, чуть ли не последний день приема документов, нас пятнадцать орлов (не менее половины – медалисты), поселили вообще в холле, на пятнадцатом этаже, на раскладушках. И я два дня ходил, открыв рот, по этому государству – Ленинские горы, нескончаемые коридоры, залы, столовая площадью с железнодорожный вокзал, студенческая пестрота – негры, кубинцы, испанцы, китайцы.
Скоростной лифт ходил до тридцать шестого этажа. Что характерно – рубежом был шестнадцатый, если первый подошедший ехал ниже, то так и кричал: «Ниже!», и лифт заполнялся соседями, крик «Выше» означал, что кабина пойдет от шестнадцатого этажа и выше. Такая вот саморегуляция.
Кончилось все это на третий день. Первый экзамен – физика письменно. В билете три задачи. Простенько так.
Первая: поезд идет со скоростью восемьдесят километров в час, капли дождя падают со скоростью двадцать километров в час. Под каким углом они будут оставлять след на стекле вагонного окна? Это всё. Ей-богу, я помню дословно.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: