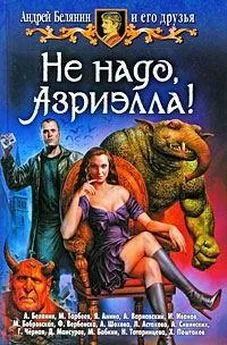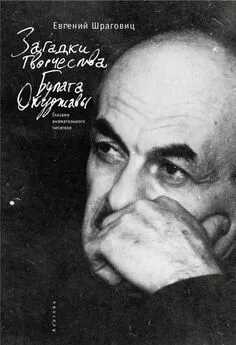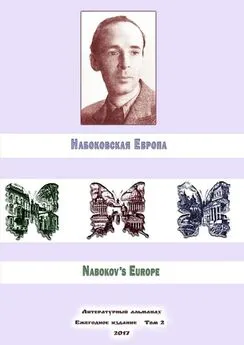Евгений Мансуров - Пирамида не-творчества. Вневременнáя родословная таланта. Том 2
- Название:Пирамида не-творчества. Вневременнáя родословная таланта. Том 2
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-907332-76-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Мансуров - Пирамида не-творчества. Вневременнáя родословная таланта. Том 2 краткое содержание
Пирамида не-творчества. Вневременнáя родословная таланта. Том 2 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
• Во все время своего заграничного путешествия (Франция, 1843–1844 гг.) Сергей Соловьев (1820–1879) – российский историк, автор монументальной «Истории России с древнейших времен», 1851–1879 гг. – Е.М. – не прекращал переписки со своим учителем Михаилом Погодиным (1800–1875). Веря в расположение московского профессора, он сообщал ему о ходе своих занятий и даже обращался к нему за советом… ему хотелось поскорее выдержать экзамен на магистра и получить кафедру. Поэтому он написал Погодину с просьбою сообщить, что происходит в Московском университете и на что он может рассчитывать. Ответ не заставил себя ждать, но отличался двусмысленностью. Погодин горячо благодарил Соловьева за оказанное ему доверие, к чему он очевидно не привык, сообщал, что он оставил кафедру; что, с одной стороны, Соловьеву нужно было бы возвратиться в Россию для занятия русской историей, но, с другой стороны, пожить подольше за границей было бы ему также очень полезно… Письмо это удивило Соловьева своей странностью, потому что он в то время еще не понял характер Погодина и не знал, что делалось в Москве. Авторитет Погодина сильно пошатнулся в 40-х годах, попечитель не благоволил к нему, и, следуя своему грубому и неуживчивому характеру, он находился во вражде с молодыми профессорами, так называемыми западниками… В преемники по кафедре Погодин наметил себе молодых ученых менее талантливых, чем Соловьев, и притом таких, которые не намеревались посвятить себя исключительно русской истории (тема исследований самого Погодина. – Е.М.)… «Попечитель остановился теперь на Соловьеве, кандидате, который должен воротиться из путешествия, – писал Погодин Григорьеву, которого убеждал сделаться его преемником. – Малый он хороший, с душою, но кажется, слишком молод. По возвращении из-за границы Соловьев очутился в довольно неловком положении… Он сидел у себя дома, стараясь как можно лучше подготовиться к магистерскому экзамену и написать поскорее диссертацию… а в университетских кружках зародилось ни на чем не основанное подозрение, будто Соловьев находится в сговоре с Погодиным, и последний намерен вернуться на кафедру. Между тем отношения между Погодиным и Соловьевым совсем не были настолько близки и едва ли их можно было назвать дружественными. Погодин не скрывал, что сожалеет о своей отставке, но о своих планах он ничего не сообщал. Одна выходка даже сразу отшатнула ученика от учителя, в расположение которого ему все еще хотелось верить. «Что же вы пишите диссертацию, – обратился Погодин к Соловьеву, – а со мной никогда о ней не говорите, не посоветуетесь?» – «Я не нахожу приличным советоваться, – ответил Соловьев, – потому что, хорошо ли, дурно ли напишу я диссертацию, она будет моя, а стану советоваться с вами и следовать вашим советам, то она не будет вполне моя». «Что же за беда, – возразил Погодин, – мы так и скажем, что диссертация написана под моим руководством». Следствием всех этих обстоятельств… было то, что Соловьев выдержал экзамен гораздо хуже, чем этого можно было ожидать, судя по его способностям и громадному трудолюбию. Экзамены начались со всеобщей истории в январе 1845 года… Второй экзамен по русской истории был менее удачен. За неимением специалиста в университете, пригласили Погодина. Он задал экзаменующемуся удивительный вопрос: изложить историю отношений России с Польшей с древнейших до последних времен. На такой вопрос ни сам Погодин, никто другой не мог бы ответить удовлетворительно по той простой причине, что в то время как история Польши, так и новая русская история после вступления на престол Михаила Федоровича оставались совершенно неразработанными. Чтобы выдержать подобный экзамен, нужно было много лет просидеть в архивах и изучить нигде не напечатанные документы, что впоследствии и сделал Соловьев, но в 1845 году не было книг, по которым можно было бы уяснить себе отношения России с Польшей за целых 900 лет… Понятно, что присутствовавшие профессора остались недовольны и заявили, что ответ – гимназический, а не такой, как требуется от магистра, и что из такого ответа не видно, может ли экзаменующийся занять профессорскую кафедру… Позднее Погодин проговорился: он ничего не имел против Соловьева, если бы тот согласился стать его прислужником, но признать его способным к профессорскому званию он не хотел: ему желательно было, чтобы кафедра русской истории пустовала и чтобы его упросили вновь занять ее…» (из очерка П.Безобразова «С.Соловьев, его жизнь и научно-литературная деятельность», Россия, 1894 г.);
• «Вот что рассказала нам о Иване Тургеневе (1818–1883) и Якове Полонском (1819–1898) актриса Марья Гавриловна Савина… С Тургеневым у них был когда-то «голубой» роман. И до дня его смерти (1883 г.) не прекращалась переписка. «Когда он написал «Песнь торжествующей любви» (1881 г.) вспоминала Савина, – я как раз гостила у него в Спасском-Лутовинове. И Яков Петрович Полонский тоже, они ведь были большими приятелями. Иван Сергеевич предложил нам послушать только что оконченную вещь. Это и была «Песнь торжествующей любви». Читал вечером, на балконе, при свечах. Было самое начало лета, всё цвело, и к ночи, тихой и тёплой, сад особенно благоухал. Тургенев волновался, я чувствовала, что эта вещь ему дорога, у него даже голос звенел. Когда кончил – Полонский помолчал некоторое время, а потом встал и басом своим недовольно зарокотал: он, де, ничего не понимает, и что это тут напущено… «Эта вещь тебе – нет, не удалась…» Тургенев не возражал, не спорил, но я сердцем чувствовала, как его Полонский своим отзывом на месте убивает. Притом я чувствовала, что Полонский говорит вздор, по глупости или зависти, уж не знаю… А сама я не могла ничего сказать, не могла, не умела… Но Тургенев, верно, понял, что у меня на душе. Мы потом, – Полонского уже не было, – сошли вдвоём в тёмный сад, и долго молча ходили, среди благоуханья трав, и на скамейке так же молча сидели, и точно я этим как-то по-женски, по-бабьи, без слов его утешила, молчаньем сказала ему всё, что хотела… А сад и тихая ночь мне помогали. «Романы Полонского, конечно, были непохожи на «чепуху» вроде «Песни торжествующей любви»… Ничего, ни тени от них не осталось в памяти… Должно быть, не так уж несправедливы были те, кто ценил прозу Полонского ниже тургеневской… А сам Полонский считает себя обиженным, непризнанным… прозаиком» (из очерка 3.Гиппиус «Благоухание седин. О многих», Франция, 1924 г.);
• «Помните многолетнюю вражду Федора Достоевского (1821–1881) и Ивана Тургенева (1818- 883), точнее Достоевского к Тургеневу? Поводы были разные, а вот причина, пожалуй, одна. Они оба были пророки, но Достоевский темный, а Тургенев светлый. И читающие современники решительно отдавали свою любовь Тургеневу. Особо травмировал Достоевского самый точный показатель популярности: Федору Михайловичу платили за печатный лист 150 рублей, а Ивану Сергеевичу 400!..» (из книги Л.Жуховицкого «Как стать писателем за 100 часов. Руководство для всех, кто хочет прославиться», Россия, 2005 г.).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: