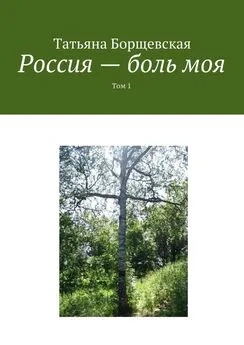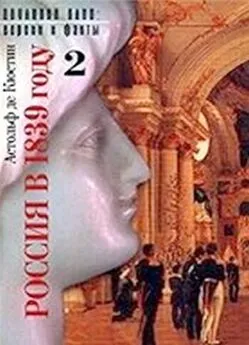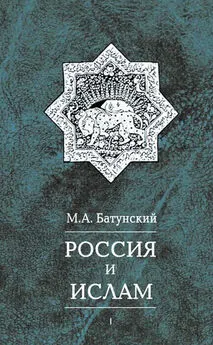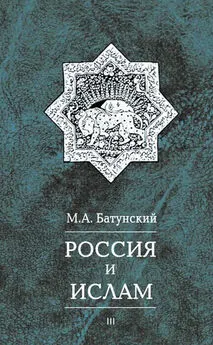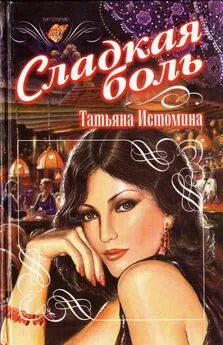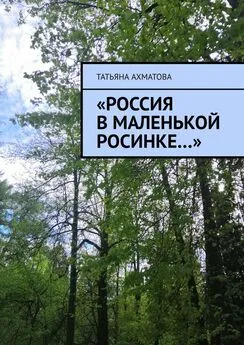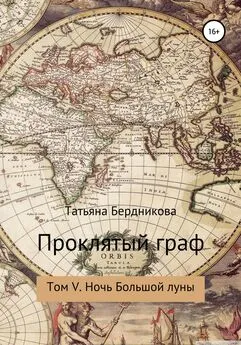Татьяна Борщевская - Россия – боль моя. Том 1
- Название:Россия – боль моя. Том 1
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449076502
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Татьяна Борщевская - Россия – боль моя. Том 1 краткое содержание
Россия – боль моя. Том 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Рождество 1942 года немцы отмечали бурно, шумно (у нас в это время на постое никого не было), выскакивали на балконы, выкрикивали что-то, палили в воздух. Это было еще до разгрома под Сталинградом, они еще чувствовали себя победителями. А Гюнтер пришел к нам, принес рождественский ларчик с печеньем и свою художественную фотографию с дарственной надписью. Мы втроем: тетя, Гюнтер и я – сидели на железной койке в кухне, и тетя с Гюнтером о чем-то тихо разговаривали. Много времени спустя я узнала от тети, что Гюнтер ненавидел войну, Сталина и Гитлера. Поэтому он избегал солдатских компаний, нередко приходил поболтать с моей тетей (он называл ее мамой), и дружба с маленькой девочкой, наверное, тоже была какой-то отдушиной.
В какой-то момент почти все солдаты, жившие в нашем доме, исчезли – ушли на фронт. Бои шли, по-видимому, недалеко от Сталино, и через некоторое время значительная часть солдат вернулась на старые квартиры. Гюнтера среди них не было. Был он ранен или убит – неизвестно: спросить было не у кого. Светлую память об этом немецком юноше я сохранила на всю жизнь. Когда изменились времена, я, пожалуй, попыталась бы его найти, но имени его я не знала. Его фотографии тетя уничтожила: за них мы непременно отправились бы в ГУЛАГ. Вспоминая о нем, мне хочется отметить еще одну деталь: летом в жару немецкие солдаты ходили в трусах – сатиновых черных; теперь такие трусы называют «семейными». Гюнтер никогда не ходил в трусах: думаю, он считал, что это демонстрация неуважения к населению.
До войны и, следовательно, во время оккупации тетя моя жила в самом центре Сталино. Наш дом пятиэтажный в центре и четырехэтажный по краям стоял внутри огромного прямоугольника, образованного сомкнутыми пятиэтажными домами. Сторона прямоугольника – большой квартал. Внутрь двора вели две арки и вход со стороны небольшого сквера. Один угол двора образовывало Г-образное 5-этажное здание, сожженное нашими при отступлении. Одно время там под сгоревшими стенами за колючей проволокой прямо на снегу лежали и сидели наши военнопленные. Я не знаю, как долго они там находились: была зима, и я почти не выходила из дому – не в чем было. Я ничего не понимала. Взрослые с детьми, как и между собой, не обсуждали опасных тем: сталинский террор научил людей молчать. Это сейчас, спустя десятилетия, я, как в телескоп, рассматриваю события, которые сохранила моя детская цепкая память, и пытаюсь их осмыслить. Несколько лет назад моя сестра, с которой мы жили в те страшные годы (ей тогда было 18), дочь моей спасительницы тети Веры, рассказала мне, что однажды, когда она шла недалеко от колючей проволоки, за которой были наши бойцы, молодой конвоир, который ходил вдоль этой изгороди, поравнявшись с ней, тихо сказал: «Дай им хлеба – я отвернусь». Но хлеба не было… Голод – это было постоянное ощущение в течение всех лет войны и первых лет после войны. Когда, куда и как ушли военнопленные, я не знаю.
В противоположном конце нашего двора было такое же Г-образное пятиэтажное здание. В нем было общежитие СС. Однажды мы шумно играли у того края нашего дома, который был ближе всего к этому зданию. Солдаты, которые были у нас на постое, загребли нас всех в охапку, увели подальше оттуда и тихо сказали: «Никогда не играйте в той стороне дома и не шумите – это опасно». Почему, мы не поняли, но запомнили.
Однажды мне, полуеврейской девчонке, тем не менее удалось даже побывать внутри этого здания. Я была дистрофиком. От голода у меня колени, локти и углы губ были покрыты язвами с мокнущими корками. Не помню, кто, как и почему привел меня в медсанчасть этого дома. Я запомнила медсестру, блондинку, в чистом накрахмаленном светло-зеленом халате-сарафане, белой кофточке и белой косынке. Запомнилось ее недоброе брезгливое лицо. Но язвы мои она мне чем-то смазала. Меня водили туда дважды, и язвы мои исчезли.
Я ничего не понимала в сути происходящего, я просто фиксировала его в своей памяти. Я не понимала, почему тетя увезла меня из Лисичанска от мамы. Когда тетя привезла меня в Сталино, она 4 дня не выпускала меня из дома. Выходить я могла только на балкон. – Смешно, глупо, опасно, но – факт: вот что страх делает с человеком. На пятый день я убежала. Когда я вернулась, тетя больно выдрала меня за шкафом резинками от кружки Эсмарха. (Надо сказать, что бить детей у нас в семье принято не было – это тоже был продукт страха.) Плакать не разрешалось. На следующий день я снова сбежала, и снова была порка. Тетя била, неистово, нервно, со слезами. Странно, меня, в сущности, никогда не били, и такая экзекуция была для меня внове. Но я не обижалась на тетю. Хоть я была еще маленькой, я понимала, что тетя меня любит, что она чего-то боится. Я сдерживала слезы, но упорствовала и продолжала убегать. В конце концов, я заявила: «Вера, сколько бы ты ни била меня, я буду убегать». И тетя отступилась. (И где только ни носило нас, стайку чумазых, голодных воробьишек: по каким-то минным полям, по разбитым паровозам и вагонам, но Бог нас хранил, а взрослые ничего об этом не знали.) Но то, чего тетя так боялась, все-таки стряслось. Поскольку я не знала, чего надо бояться, в какой-то болтовне с дворовыми ребятишками я сказала: «А мой папа еврей». В тот же день к моей тете пришли и спросили: «Так Ваша племянница еврейка?!» – Назавтра я была уже далеко на окраине города у весьма пожилых друзей моей тети – тети Тани и дяди Саши, в их отдельном домике и отдельном дворике. Не знаю, сколько времени я провела у них – месяц, два? Когда стало ясно, что все обошлось, что никто никуда ничего не донес, я вернулась домой.
Я была так глупа, что уже будучи ученицей старших классов, студенткой первых курсов института, никогда не попыталась встретиться с этими людьми, посмотреть им в глаза, поклониться им в пояс. Правда, мы жили в разных городах, но все же я, хоть и не часто, бывала в Сталино – потом Донецке. Когда стало приходить осознание происходившего, ни тети Тани, ни дяди Саши не было в живых.
Голод – не тетка. Он проходит красной нитью через все мое детство, с 1941 по 1948-й год. Но степень недоедания бывает разная, и самый тяжелый голод был во время оккупации.
Единственным источником продуктов была деревня, но она сама была бедна, капризна и не щедра. И моя тетя дважды отправлялась в Лисичанск поискать в бабушкином сундуке что-либо, что примет деревня. Но на это надежды было мало. Более надежд она возлагала на соду: в Лисичанске был еще в царские времена основанный содовый завод – он и в советские времена был союзного значения. Мыло во время войны – продукт бесценный. Но это продукт стратегический и потому опасный: гражданское население немцы карали за покупку, продажу, распространение мыла. Но… голод – не тетка. И тетечка моя рискует привезти оттуда в Сталино немного соды: на рынке ее из-под полы продавали рюмочками. Что такое жить без мыла, знают те, кто это испытал: это вши, чесотка, болезни, тяжелый дискомфорт. (Моя бедная тетечка и после войны долгие годы экономила мыло: стирала руки в кровь, чтобы отстирать белье с малым количеством мыла.) На вырученные от продажи соды деньги можно было купить хлеб.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: