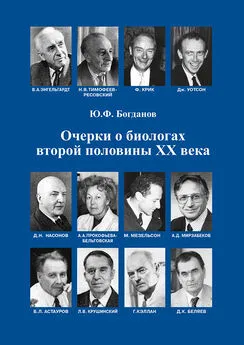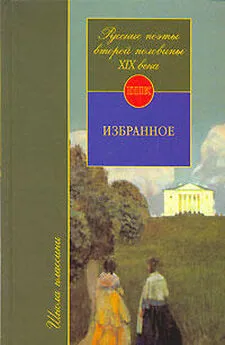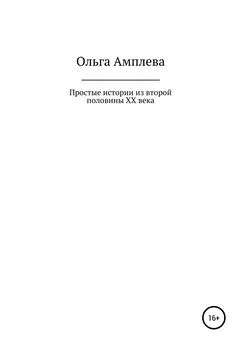Юрий Богданов - Очерки о биологах второй половины ХХ века
- Название:Очерки о биологах второй половины ХХ века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-87317-806-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Богданов - Очерки о биологах второй половины ХХ века краткое содержание
Очерки о биологах второй половины ХХ века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Мотивом для поступления на биологический факультет был интерес к физиологии мозга. Мои родители были хирургами, и я с детства жил в мире медицинских терминов и понятий. Ещё до поступления на биофак я познакомился с четырьмя томами «Атласа анатомии человека» В. П. Воробьёва, но становиться врачом не хотел, т. к. имел склонность к натурфилософии. Физиология животных была компромиссом. Решение я принял в девятом классе. Поступил на биофак легко, т. к. закончил школу (школа № 417 Москвы) с серебряной медалью.
Как только начались занятия на первом курсе, я был сразу очарован красотой и богатством мира беспозвоночных животных и принял решение заниматься физиологией беспозвоночных. С первого курса я участвовал в студенческом кружке при кафедре физиологии животных и стремился включиться в какую-нибудь лабораторную работу. Поскольку с беспозвоночными зимой на кафедре никто не работал, я использовал возможность участвовать в работе лаборатории профессора Леонида Викторовича Крушинского, связанной с физиологией мозга крыс ( см. очерк о нём в этой книге ). Его лаборатория располагалась на Пушкинской биостанции МГУ в Останкине. На биостанцию меня привел осенью 1951 г. однокурсник Вадим Фрезе, о котором я за это и за многое другое храню благодарную память. В этой книге Вадиму Ивановичу Фрезе посвящён очерк: «Самый надёжный человек на моём жизненном пути». В лаборатории Крушинского под наблюдением м.н.с. Л. Н. Молодкиной я выполнял обязанности лаборанта-испытателя. Два раза в неделю, по твердо установленным дням и часам, я проводил опыты по индукции эпилептических припадков у крыс и вёл протоколы опытов в лабораторном журнале. Мое участие в опытах продолжалось с сентября 1951 г. до марта 1953 г., когда я сломал ногу и попал в больницу.
Л. В. Крушинский в 1954 г. стал профессором новой кафедры высшей нервной деятельности и звал меня на эту кафедру, но я остался верен желанию заниматься физиологией беспозвоночных и защищал дипломную работу по физиологии двустворчатых моллюсков под руководством профессора Хачатура Сергеевича Коштоянца на кафедре общей и сравнительной физиологии человека и животных.
После окончания аспирантуры я изменил свою специальность, став сначала цитологом, а затем цитогенетиком. Этому предшествовала неслучайная эволюция моих интересов в науке.
Биофак 50-х годов и эволюция взглядов студента-биолога тех лет
Конец 40-х и начало 50-х годов, как известно, было тяжёлым временем для отечественной биологии. В 1948 г. на сессии ВАСХНИЛ произошёл разгром генетики и связанных с ней дисциплин. Затем, на сессии АМН СССР 1950 г., отечественная физиология получила директиву «не отступать от учения И. П. Павлова». Одновременно появилось «учение» О. Б. Лепешинской о самозарождении жизни. Началась «чистка» преподавательских кадров на биофаке. На факультете появилась группа истовых приверженцев Т. Д. Лысенко. К счастью, его ярый приверженец И. И. Презент недолго был деканом факультета. К 1951 г. его сменил умеренный (общественно неактивный) садовод-мичуринец проф. С. И. Исаев. Лояльность по отношению к мичуринской биологии и запрет на проявление «вейсманизма-менделизма-морганизма» в преподавании и научной работе на факультете контролировались. Смысл событий, происходивших в биологии, в идеологической сфере и в обществе был тогда ясен не всем студентам (скорее – немногим). Полной ясности на младших курсах не было и у меня, ведь «все мы вышли из Сталинской шинели» как сказал в 1993 г. на Съезде Народных депутатов РСФСР, перефразируя В. Г. Белинского, выпускник биофака 1955 г. и народный депутат Николай Николаевич Воронцов.
Хорошо помню библиотечный учебник гистологии Заварзина и Румянцева, в котором некоторые разделы, в том числе о митозе, мейозе, хромосомах, были зачёркнуты. Читать их «не полагалось». Через близких мне товарищей, чьи родители были биологами, я постепенно начал кое в чём ориентироваться. Главное, что усваивалось быстро в те годы (еще в школе) состояло в том, что не с каждым человеком и не обо всём можно было говорить.

Одно из зданий Московского государственного университета на Моховой улице. В этом здании помещалась часть кафедр биофака, а в бывшем Актовом зале (под куполом) – читальный зал естественных факультетов. Снимок 1953 года. Фото 2.1–2.3 – фото автора.
Это правило наглядно подтверждалось в студенческой среде биофака. Осенью 1951 г., когда мы только начали учиться на первом курсе, были восстановлены студентами второго курса Ася Парийская, Валя Силина (теперь Холодова), Наталия Кампман и Нинель Тириакова. Все они в 1949 г. были сначала исключены из комсомола, затем отчислены из университета за то, что образовали молодёжный кружок или общество (вне университета), где вели дискуссии о том, как «улучшить жизнь» и быть «лучше, чем комсомольцы» (!). Они не скрывали этих увлечений, за что и поплатились: кто-то донёс о существовании «неформального», политического общества. После исключения из университета они были на «перевоспитание» направлены работать на московских заводах и стройках, а юношей, участников этого «общества», арестовали и освободили только в средине 50-х годов после смерти И. В. Сталина. Тогда же вернулись на биофак из сталинских лагерей студенты Борис Вепринцев и Андрей Трубецкой, арестованные, соответственно, в 1951 и 1949 гг. С каждым из них по очереди мне в 1954–57 гг. довелось поучиться на одном курсе. Тогда они не рассказывали о себе, а расспрашивать их я считал нетактичным. Позже оба они стали докторами наук. А в конце 90-х гг. были опубликованы чрезвычайно интересные мемуары А. В. Трубецкого («Пути неисповедимы». М. «Контур». 1997. 397 с.) – фронтовика, военнопленного, жителя окупированной территории, партизана, снова фронтовика, затем – сначала студента биофака, потом узника Джезказганского лагеря ГУЛАГ и снова студента. Судьба Б. Н. Вепринцева, причины его ареста, его подвижническая научная и природоохранная деятельность описаны в статье С. Э. Шноля в журнале «Природа» 1993, № 3, и в книге того же автора «Герои и злодеи российской науки» (М. 1997).
Привычка к запретам, опасениям, слухам, в 50-е годы удивительно совмещалась с атмосферой жизнерадостности в студенческой среде, с романтической атмосферой летних практик на биостанциях, с удовольствием от занятий художественной самодеятельностью и агитпоходами. В моём сознании студенты условно делились на три категории по интересам: (1) внешне ничем не увлечённых (хотя именно среди них было много интересных людей), (2) увлечённых художественной самодеятельностью и агитпоходами и (3) увлечённых только (или в основном) наукой. Я примыкал к последней категории, хотя с интересом прислушивался ко вторым.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: