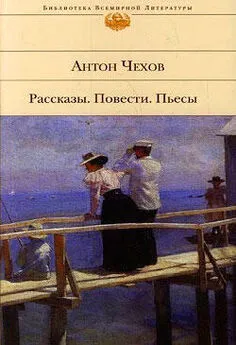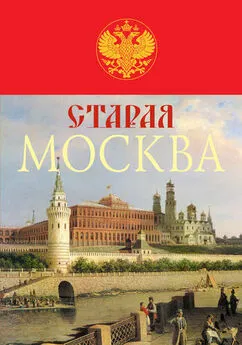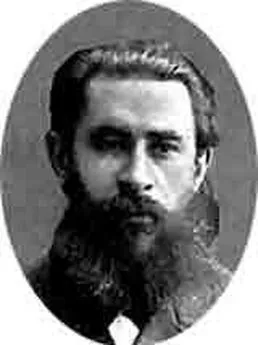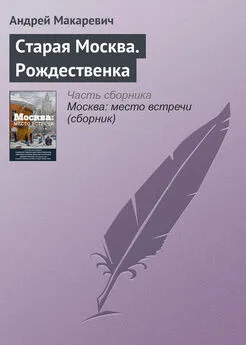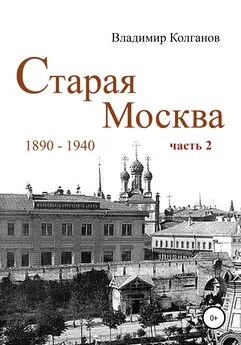Сергей Дурылин - В родном углу. Как жила и чем дышала старая Москва
- Название:В родном углу. Как жила и чем дышала старая Москва
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91761-721-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Дурылин - В родном углу. Как жила и чем дышала старая Москва краткое содержание
В родном углу. Как жила и чем дышала старая Москва - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но для меня эти мясные лавки с детства были предметом отвращения, я спешил поскорее пройти мимо них и, не чувствуя никакой привязанности к мясной пище и по целым годам становясь вегетарианцем, никогда за всю жизнь не мог взять в руки куска сырого мяса.
Рыбные лавки на Немецком рынке были особа статья. Многопудовые осетры с острейшими, как иглы, носами; грузные, не в подъем одному человеку, белуги; розово-желтые семги, каких не увидишь и в Архангельске, на их родине, занимали здесь то место, которое в мясных лавках принадлежало бычьим и свиным тушам. Судаки, караси и лещи «пылкого заморозу» соответствовали здесь крупной птице – гусям и индейкам: эти еще были на виду и на счету, а весь прочий рыбий народ был без счету, им были набиты огромные многопудовые плетенки и короба из щепы, стоявшие на полу. Тут же стояли целые мешки с белозерскими снетками – мелкой сушеной рыбкой, из которой варили сытные вкусные щи и картофельную похлебку, фунт их стоил копеек 15. За все последние 24 года я не видал в Москве ни единого снеточка; куда они девались – ума не приложу: не высохло же Белоозеро, не вымерла же в нем вся рыба? А снеток был великим подспорьем малоимущим хозяйкам. С ним пекли и блины. В полутеплых помещеньицах при рыбных лавках стояли большие деревянные чаны с живой рыбой – тут в жуткой тесноте рядом со смиренной подмосковной плотвой извивалась кольцом стерлядь, уроженица Оки или Волги.
Целые кади были полны черным жемчугом икры – зернистой и паюсной. Я говорю «черным», потому что красной кетовой икры тогда и в помине не было, она появилась в Москве после японской войны, и сначала на нее недружелюбно косились, как на щуковину или сомовину: эта рыба-де для нехристей, а эта икра-де – икра для нехристей, недаром, мол, она добывается из «кита-рыбы». Да и какая была особая нужда в этой новой красной икре, когда лучшая черная паюсная осетровая икра стоила 1 рубль – 1 рубль 20 копеек, а зернистая – 1 рубль 10 копеек – 1 рубль 50 копеек за фунт?
В пост сам протопоп жаловал в рыбные лавки и отбирал себе рыбку для ушицы и для заливного. Посты соблюдались в то время строго, и на постный стол были тогда истинные знатоки и мастера.
Волга, Кама, Шексна, Дон, Обь, Белоозеро, Ладога, Онега и четыре моря – Белое, Балтийское, Черное и Каспийское – слали в Москву лучшую рыбу – живую, вяленую, сушеную, малосольную, соленую, копченую, – и нигде в мире рыбный стол не был так обилен, разнообразен и изыскан, как в Москве. Мне было смешно читать в дневнике Гете торжественные записи о том, что в такой-то день он отведал у своего serenissimus’a (герцога) черной икры, а в такой-то кушал осетрину. Вот невидаль для старой Москвы! В трактире Егорова в Охотном ряду или у Тестова пышный «дышащий» расстегай с осетриной, с тарелкой ухи стоил 35 копеек!
Однажды мы с моим приятелем поэтом Мешковым, бродя по Москве, забрались за Семеновскую заставу, пошли по шоссе мимо укромных мещанских домишек и забрели так далеко, что захотелось есть. Мы зашли в первый попавшийся трактир (синяя вывеска с золотыми и белыми буквами), и, продолжая разговор о поэзии, я броском, будто в хорошем ресторане, спросил:
– Дайте белугу под хреном.
И не успели мы решить, кто ближе к чистому лиризму – Полонский или Фет, как уже явилась белуга под хреном, с красным виноградным уксусом.
Много лет спустя я прочел в записной книжке Чехова, которому не было ничего чужого и неинтересного в его России:
«Грязный трактир у станции. И в каждом таком трактире непременно найдешь соленую белугу с хреном. Сколько же в России солится белуги!» [32] См.: А. П. Чехов. Полн. собр. соч. Изд. 2-е. Т. XXIII. С. 66. (Примеч. С. Н. Дурылина.)
В 1913 году в Москву приехал Эмиль Верхарн [33] Верхарн Эмиль Адольф Густав (Verhaeren Emile; 18551916) – бельгийский поэт-символист, русские переводы его стихов были сделаны В. Я. Брюсовым, М. М. Волошиным, А. А. Блоком, Эллисом.
. Он был в восторге от Москвы, от ее «лица необщего выражения» [34] Цитата из стихотворения Е. А. Боратынского «Муза» (1830).
и написал об этом в «Русских ведомостях». Его возили по московским достопримечательностям – всюду потчевали то завтраком обыкновенным, то завтраком a la fourchette, то обедом, то чаем с фруктами и шампанским, то ужином. Сухонький старик с большими усами, изящный, стройный, живой, скромный, – вместе с такой же супругой, седой, сухенькой, живои, любезной и скромной, благодарил и кушал, кушал и благодарил. Но когда на банкете, данном Верхарну Литературно-художественным кружком [35] Литературно-художественный кружок (1898–1917) объединял главным образом художественную интеллигенцию Москвы.
, его ввели в зал и он быстро, сквозь пенсне оглянул парадный стол, сверкающий белоснежной скатертью, серебром, хрусталем, и увидал на нем огромную серебряную лохань, а в ней четырехугольный куб льда с выдолбленной серединой, сплошь наполненной зернистой икрой, с погруженной в нее серебряной лопаткой, впечатлительный фламандец не мог сдержать своего изумления и воскликнул:
– C’est colossal! [36] Это колоссально (фр.).
По-московски это не было «colossal»: в ледяной глыбе всего-навсего было с полпуда осетровой икры!
Кругло-желтые, как яичный желток, круги русского масла, точно жернова с неведомой мельницы; исполинские плиты-кирпичи сливочного масла, будто выточенные из слоновой кости; сорокаведерные бочки с подсолнечным маслом – смотря на них в масляных лавках, казалось, что это запасы для великанов, глотающих масло глыбами, а не для мирных обывателей Елохова.
В «колониальных магазинах и лавках», наполнявших Немецкий рынок (самым знаменитым был братьев Рудневых, откуда брали товар в наш дом), можно было в любое время достать все – от рябины в сахаре до бородатого кокосового ореха из Африки, от сушеной малины и земляники до финика из Аравии и сигар из Гаваны. В колониальных магазинах высились целые пирамиды из цыбиков чаю, увернутых в зеленоватые циновки тонкого плетения, с китайскими письменами, написанными резко-черной тушью. Каких-каких только сортов чая не продавалось в Москве – от драгоценного «императорского» лянсина «Букет китайской императрицы», дающего настой бледно-лимонного, почти белого цвета, до крепких, как куски черного гранита, плиток «кирпичного чаю»! Любители чая (а кто в Москве не был его любителем?), истые знатоки искусства чаепития знали в точности всю иерархию чаев – «черные ароматические», «цветочные ароматические», «императорские – зеленые и желтые», «императорские» лянсины и «букетные белые чаи». Среди черных чаев славился у знатоков «Черный перл», употреблявшийся при дворе богдыхана. Самым дешевым среди лянсинов был «Инжень, серебряные иголки», в 2 рубля 50 копеек, а самым дорогим – «Букет китайских роз»: он стоил 10 рублей за фунт; дороже этого сорта не было чаев. Из «зеленых» чаев любители пили «Жемчужный отборный Хисон», а из «желтых» – «Юнфачо с цветами». Были еще так называемые «резанистые чаи» для любителей особо душистого чая. Но все цены от 1 рубля 60 копеек до 5 рублей за фунт. Чай продавался всюду – в чайных магазинах, в колониальных, в мелочных лавочках, но кто хотел, так сказать, подышать самым воздухом далекой родины чая, тот отправлялся в китайские магазины. Один из таких магазинов – «Та-Шен-Юй» – был на Покровке, неподалеку от Земляного вала. В нем была всегда тишина, стоял чистейший сухой и нежный запах чая, на прилавках размещались большие китайские фарфоровые вазы, и невозмутимо улыбающиеся китайцы (без лет: невозможно было решить по их лицам, старые они или молодые), в длинных балахонах из белого шелка, в кофтах из чесучи, с длинными, до пят, черными как смоль косами, продавали, еле говоря по-русски, чай, только чай, да еще чесучу и фанзу – шелковые материи несравненной прочности.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: