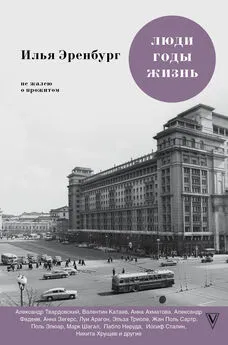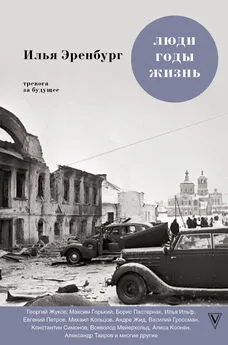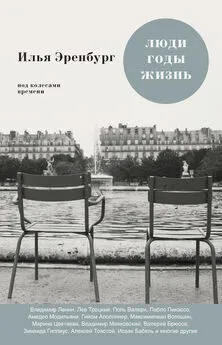Илья Эренбург - Люди, годы, жизнь. Не жалею о прожитом. Книги шестая и седьмая
- Название:Люди, годы, жизнь. Не жалею о прожитом. Книги шестая и седьмая
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-098147-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Илья Эренбург - Люди, годы, жизнь. Не жалею о прожитом. Книги шестая и седьмая краткое содержание
Встречается здесь читатель и с известными учеными, писателями, художниками, чьи литературные портреты во множестве представил автор. Среди них А. Эйнштейн, Ф. Жолио-Кюри, Е. Шварц, А. Фадеев, П. Элюар, П. Неруда, Н. Хикмет, П. Пикассо, А. Матисс, М. Шагал…
Люди, годы, жизнь. Не жалею о прожитом. Книги шестая и седьмая - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Бескупюрный текст мемуаров восстанавливался нами на основе подчас разрозненных рукописей шести частей «Люди, годы, жизнь» (беловых и черновых, включая многочисленные обрезки правленой авторской машинописи), хранившихся в государственных архивах и частных собраниях (с учетом всех прижизненных публикаций). Восстанавливались все купюры, сделанные по требованиям многоэтапной цензуры (редакционной и главлитовской) за исключением той авторской правки, что имела не цензурный, а сугубо стилистический или уточняющий фактический характер.
Огоньковская публикация седьмой книги, как затем и полное издание всех частей мемуаров, выпущенное (без единой купюры!) «Советским писателем» в 1990 году, не стали политической сенсацией, подобно первым шести книгам в «Новом мире», – изменилось время, планка гласности резко поднялась, уровень информированности читателей заметно вырос [66] Как теперь понятно, эта информированность зачастую оказывалась непрочной.
. Критика не отреагировала на новое издание мемуаров, которое пришлось ждать почти четверть века. Это не означает, что Твардовский ошибался, предрекая мемуарам «Люди, годы, жизнь» прочную долговечность. Думаю, что они будут жить как литературная панорама, запечатлевшая не только уникальный жизненный путь автора с его иллюзиями, сомнениями, заблуждениями, надеждами и неизменной верой в вечную силу искусства, но и картину первых шестидесяти лет истории ХХ века Европы, ее культуры, ее политической жизни.
Завершая это вступление к третьему тому мемуаров «Люди, годы, жизнь», хочу вспомнить слова Н.Я. Мандельштам из письма Илье Эренбургу, написанного в нелегкую для него пору марта 1963 года: «Ты знаешь, что есть тенденция обвинять тебя в том, что ты не повернул реки, не изменил течение светил, не переломил луны и не накормил нас лунными коврижками. Иначе говоря, от тебя хотели, чтобы ты сделал невозможное, и сердились, что ты делал возможное. Теперь, после последних событий, видно, как ты много делал и делаешь для смягчения нравов, как велика твоя роль в нашей жизни и как мы должны быть тебе благодарны. Это сейчас понимают все» [67] П3. № 530 (март 1963).
.
Борис Фрезинский
Книга шестая
Не знаю, правильно ли я поступил, закончив пятую часть моей книги маем 1945 года: ведь все, о чем мне предстоит рассказать в последней части, началось год спустя.
А события и переживания 1945 года были еще тесно связаны с войной. На Потсдамской конференции, на встречах министров иностранных дел в Лондоне и в Москве наши дипломаты спорили с англосаксами, но в итоге еще принимались компромиссные решения. Еще продолжался обмен восторженными телеграммами и орденами. Повсюду шли процессы над гитлеровцами и над их соучастниками; прокуроры узнали страдную пору. Судили и казнили Лаваля, Квислинга. Долго длился суд над палачами Бельзена. В Бельгии, в Голландии, в Италии, в Югославии, в Польше, у нас – что ни день печатали обвинительные заключения. Судили престарелого Петена, и это было понятно – он сыграл слишком видную роль в уничижении Франции. Судили даже норвежского писателя Кнута Гамсуна (автора чудесных романов, которыми я зачитывался в молодости), хотя ему было восемьдесят пять лет и Гитлером он восхитился, скорее всего, от старческого слабоумия.
Еще юлил перепуганный Франко. Еще сопротивлялась Япония. Помню день, когда я прочитал об атомной бомбе. Даже пережитые нами ужасы не смогли вытравить до конца всех человеческих чувств, и вот произошло нечто, бесконечно удалявшее нас от привычных представлений о совести, о духовном прогрессе. А я все еще продолжал верить в слова Короленко, выписанные когда‑то гимназистом четвертого класса: «Человек создан для счастья, как птица для полета». Более оглушительного опровержения XIX веку, чем Хиросима, нельзя было придумать.
Люди непризывного возраста как‑то сразу почувствовали, до чего они устали; пока шла война – держались, а только спало напряжение – многие слегли: инфаркты, гипертония, инсульты; зачернели некрологи.
В июле двинулись на восток первые эшелоны демобилизованных. Солдаты вернулись в города, разбитые бомбами, в сожженные деревни. Хотелось отдохнуть, а жизнь не позволяла. Снова я увидел душевную силу нашего народа – жили трудно, многие впроголодь, работали через силу, и все же не опускали рук.
В аудиториях университетов, институтов рядом с зелеными юнцами сидели тридцатилетние ветераны, прошагавшие от Волги до Эльбы. Один мне рассказывал: «Приходится корпеть над книгой полночи – забыл, начисто забыл! А ведь проходил, сдавал на аттестат…» Я подумал, глядя на него: конечно, трудно, труднее, чем ему самому кажется, – у него ведь второй аттестат, вторая зрелость… Мы слишком хорошо помнили, что у нас позади, а думать старались о будущем, загадывали, мечтали – и про себя и вслух.
Было много различных драм; один рассказывал, что потерял квалификацию, другой жаловался – не дают жилплощади. Молодой лейтенант угрюмо повторял: «Оказывается, и он Петя, как нарочно…» Он приехал к себе в Муром и увидел, что у жены новый муж, не писала, чтобы не огорчить, ко всему новый муж – тезка! Лейтенант чуть было не убил обоих, потом сели ужинать, проводили его на вокзал. Он решил ехать в Таллин – там демобилизовался, а по дороге зашел ко мне «отвести душу».
Профессор сказал мне об усатых, мрачных первокурсниках: «Совершенно от рук отбились…» Я про себя усмехнулся: я ведь тоже отбился. Еще в 1944-м я начал подумывать о романе, а сел за «Бурю» только в январе 1946-го – долго не мог взглянуть на войну со стороны. Сначала я сам не понимал, что со мной происходит; потом, приглядываясь к другим, понял, что от войны не так легко отделаться – мы все ею отравлены.
Прежде я мечтал: кончится – отдохну, поброжу по лесу, по лугам и сяду за роман. Оказалось, что я не могу оставаться на одном месте. Я начал колесить.
В конце июня я поехал в Ленинград, я там не был с июня 1941-го. (Каждый раз, когда я приезжаю в этот город, он меня потрясает; после Москвы – а я люблю Москву, в ней прошли детство, отрочество – отдыхают глаза: улицы Ленинграда связаны с природой, небо, вода входят в городской пейзаж). Повсюду виднелись следы страшных лет, что ни дом – то рана или рубец. Кое‑где еще оставались надписи, предупреждавшие, что ходить по такой‑то стороне улицы опасно. Многие дома были в лесах; работали главным образом женщины. Люди шутя говорили о «косметическом ремонте». Однако не дома наводили грусть – люди. Я всматривался в толпу: до чего мало коренных ленинградцев! В большинстве это приехавшие из других городов, городков, деревень. А пережившие блокаду часами рассказывали о ее ужасах; то, что они говорили, было известно, но всякий раз сжималось горло.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: