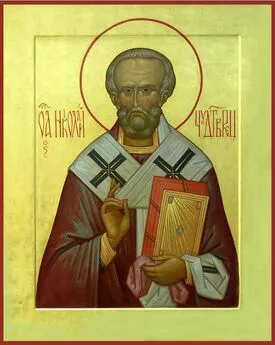Юрий Зобнин - Дмитрий Мережковский: Жизнь и деяния
- Название:Дмитрий Мережковский: Жизнь и деяния
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Молодая Гвардия»6c45e1ee-f18d-102b-9810-fbae753fdc93
- Год:2008
- Город:М.
- ISBN:978-5-235-03072-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Зобнин - Дмитрий Мережковский: Жизнь и деяния краткое содержание
Творчество великого русского писателя и мыслителя Дмитрия Сергеевича Мережковского (1865–1941) является яркой страницей в мировой культуре XX столетия. В советский период его книги были недоступны для отечественного читателя. «Возвращение» Мережковского на родину совпало с драматическими процессами новейшей российской истории, понять сущность которых помогают произведения писателя, обладавшего удивительным даром исторического провидения. Книга Ю. В. Зобнина восстанавливает историю этой необыкновенной жизни по многочисленным документальным и художественным свидетельствам, противопоставляя многочисленным мифам, возникшим вокруг фигуры писателя, историческую фактологию. В книге использованы архивные материалы, малоизвестные издания, а также периодика серебряного века и русского зарубежья.
Дмитрий Мережковский: Жизнь и деяния - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Больной о смерти думал прежде
По книгам, по чужим словам.
Он умирал в слепой надежде,
Что смерть – еще далёко, там
В грядущем где-то. Он сумеет
С ней помириться, он успеет
Вопрос обдумать и решить
И приготовиться заране…
И – вот он понял: жизни нить
Сейчас порвется. Не в тумане,
Не в дымке – подойдя к концу,
Он видел смерть лицом к лицу.
И стоицизм его притворный,
И все теории, как дым,
Исчезли вдруг пред бездной черной,
Пред этим ужасом немым.
И жизнь он мерит новой мерой.
Свой ум напрасно прежней верой
В науку хочет усыпить.
Он в ней опоры не находит.
Нет! Страха смерти победить
Умом нельзя… А жизнь уходит…
От всех познаний, дум и книг
Какая польза в страшный миг?
В конце концов, обессиленный долгой агонией, он просит любимую девушку, ухаживающую за ним, читать ему Евангелие:
«Я жизни хлеб, сходящий с неба,
И возалкавший человек,
Вкушая истинного хлеба,
Лишь Мной насытится навек.
Я жизнь даю: возжаждет снова,
Кто пил из родника земного, —
Но утоляет навсегда
Лишь Мой источник тех, кто страждет.
Я жизни вечная вода, —
Иди ко Мне и пей, кто жаждет».
«И то, чему не верил разум», в последние минуты жизни героя открылось ему, помимо сознания, «детским» проникновением в тайну Божественной Любви:
И что ж? Ни боли, ни испуга —
Не оставалось ничего
От побежденного недуга:
И тих, и светел бледный лик;
Покой в нем ясен и велик.
Разумеется, эту поэму, как и всякое художественное произведение, нельзя использовать как биографический документ. Нам остается только гадать, насколько переживания главного героя были лирически опосредованы личным опытом самого Мережковского. Но то, что они были опосредованы таким опытом и «лирический элемент» в этом специфическом рассказе о «смертных переживаниях» присутствует, представляется весьма вероятным. По крайней мере, в той среде, в которой вращался Мережковский в 1880-х годах, более ожидаемым «литературным» финалом была бы «героическая» гибель Бориса Каменского, «не поступившегося» «научными», материалистическими ценностями из-за боли и страданий. Та версия, которую предлагает Мережковский, могла быть расценена большинством его сверстников как «капитулянтская», доказывающая лишь «слабость» героя поэмы. Между тем молодой Мережковский, отходя от литературных шаблонов предшествующей эпохи, говорит о безусловной позитивной ценности «смертного опыта» для человека – как личностной, так и метафизической:
Нам смерть, как в тучах – проблеск неба,
Издалека приносит весть,
Что кроме денег, кроме хлеба,
Иное в мире что-то есть.
Когда б не грозная могила,
Как самовластно бы царила
Несправедливость без конца,
Насилье, рабство и гордыня,
Как зачерствели бы сердца!
Психологически трудно представить, что молодой писатель, еще во многом зависимый от авторитета предшественников и «общего мнения» читательской аудитории, воспитанной на писаревской апологии «нигилизма», апологии Базарова («Умру, – из меня лопух вырастет!»), пошел бы «против течения», не имея никакого опытного знания о предмете своего повествования.
Так или иначе, но дружбу Мережковского с Надсоном соединяет, помимо творческих интересов, некая общая личная тайна, в основании которой – пережитой страх страданий и смерти и стремление к обретению действенной веры, способной этот страх преодолеть:
Долго муза, таясь перед взором моим,
Не хотела поднять покрывала И за флером туманным, как жертвенный дым,
Чуждый лик свой ревниво скрывала.
И богиня вняла неотступным мольбам
И, в минуту свиданья, несмело
Уронила туманный покров свой к ногам,
Обнажая стыдливое тело;
Уронила, – и в страхе я прянул назад…
Воспаленный, завистливый, злобный, —
Острой сталью в глаза мне сверкнул ее взгляд,
Взгляд, мерцанью зарницы подобный!..
Было что-то зловещее в этих очах,
Оттененных вокруг синевою…
Серебрясь, седина извивалась в кудрях,
Упадавших на плечи волною;
На прозрачных щеках нездоровым огнем
Блеск румянца, бродя, разгорался —
И один только голос звучал торжеством
И над тяжким недугом смеялся…
О, слепец!.. Красотой я сиять не могла:
Не с тобой ли я вместе страдала?
Зависть первые грезы мои родила,
Злоба первую песнь нашептала…
Стихотворение «Муза» – одно из самых страшных стихотворений Надсона – посвящено Мережковскому.
В 1883 году Мережковский завершает гимназический курс и поступает на историко-филологический факультет Петербургского университета.
Старший современник нашего героя вспоминает, что петербургское университетское студенчество тех лет являло собою особый, живущий по самостоятельным, освященным незыблемой традицией законам, «микрокосм».
Тон задавали студенты-естественники, почитающие «настоящими» только точные науки и с презрением относившиеся к филологии и философии, которые считались родом «умственного разврата». Впрочем, позитивистская философия была исключением – чтение Конта и Бентама поощрялось, поскольку их доктрины стремились свести идеальное начало к физиологии и математике. Разумеется, безусловным авторитетом пользовался дарвинизм, недвусмысленно связываемый с пафосом атеистического скепсиса. Традиционная для студенчества вообще интеллигентская фронда в эти годы была еще сильна: в студенческой среде преобладали народнические настроения. Само слово «народ» вызывало самый неподдельный энтузиазм: стоило среди толпы студентов кому-то крикнуть: «Господа, народ!» – как все откликались на это бурными возгласами: «Да здравствует народ!»
Эстетические вкусы были односторонними: ценились «гражданские» стихи Некрасова и поэтов-«шестидесятников», штудировался роман Чернышевского, ценились тенденциозная беллетристика в духе позднего «Современника» с ее непременным пиететом к «мужику» как вместилищу «общинных добродетелей». На студенческих сходках пели:
Выпьем мы за того,
Кто «Что делать?» писал,
За героев его,
За его идеал…
Университет сотрясали политические процессы – достаточно вспомнить дело Александра Ульянова, разразившееся в тот самый год, когда Мережковский переступал порог университета. Политическая лояльность не поощрялась: к студентам-«белоподкладочникам» относились с враждебностью, а неодобрение либеральных взглядов, высказанное вслух, могло повлечь за собой бойкот. В чести были бессребреничество и проповедь жертвенности: студенты щеголяли неряшливой, бедной одеждой и гордились «безбытностью» – имущество большинства составляли тюк с бельем да связка лекций. Зато к изучению наук здесь относились с необыкновенным старанием: считалось позором готовиться к экзаменам только по лекциям и учебникам, надо было освоить, как тогда говорили, «литературу предмета». Очень распространены были кружки самообразования, где шли оживленные дискуссии по поводу прочитанных книг.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: