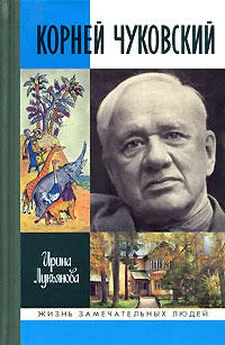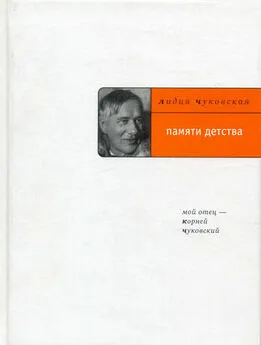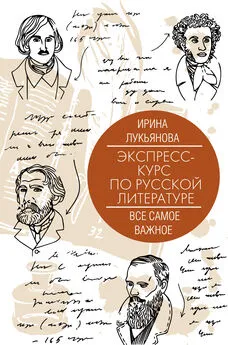Ирина Лукьянова - Чуковский
- Название:Чуковский
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Молодая Гвардия»6c45e1ee-f18d-102b-9810-fbae753fdc93
- Год:2007
- Город:Москва
- ISBN:978-5-235-03050-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ирина Лукьянова - Чуковский краткое содержание
Корней Иванович Чуковский (1882–1969) – не только автор всем известных детских стихов и сказок, но и выдающийся литературовед, критик, переводчик, активный участник и организатор литературной жизни России на протяжении семи десятилетий. Несмотря на обилие посвященных ему книг и публикаций, его многогранная натура во многом остается загадкой для исследователей. Писатель и журналист Ирина Лукьянова на основе множества источников создала новую, непревзойденную по полноте биографию писателя, вписав его жизнь в широкую панораму российской истории и литературы XX века. В изложении автора Чуковский предстает не только деятелем ушедшей эпохи, но и нашим собеседником, отвечающим на актуальные вопросы современности.
Чуковский - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
«Чуковский никогда не терял чувства литературного наследства и общелитературного масштаба, – писал Солженицын в „Невидимках“, дополнении к книге „Бодался теленок с дубом“. – В моем понуреньи, когда я со дня на день ждал ареста и с ним – конца всей моей работы, он убежденно возражал мне: „Не понимаю, о чем вам беспокоиться, когда вы уже поставили себя на второе место, после Толстого“. Вел меня к отдаленному помосту на своем участке – и давал идею, как подкинуть туда и спрятать тайные рукописи».
Октябрь К. И. провел в санатории в Барвихе. К началу октября почувствовал себя лучше, собирался выписываться. А 5 ноября в его дневнике появилась такая запись: "Пришла Клара. С нею Митя и Люша. Я дико обрадовался. Кларочка обняла меня сзади и вдруг, покуда я болтал чепуху, сказала: Вчера днем умер Николай Корнеевич.
Мне эти слова показались невероятными, словно на чужом языке. Оказывается, Коля, который был у меня три дня назад, вполне уравновешенный, спокойный, прошелся со мною над озером, – вчера после обеда уснул и не проснулся. Тихо умер без страданий… Потом пришла Облонская, мы редактировали Уолта Уитмена, и это меня спасло".
«И сколько раз, вспоминая потом об этом тяжелом для него дне, он с любовью вспоминал и Раису Ефимовну, которая его спасла (как он говорил) от невыносимой тоски», – пишет Клара Лозовская.
Эта новая смерть – как удар кулаком, написал он потом Соне Гордон. Он привык думать, что скоро покинет мир, а дети останутся в нем. Совсем недавно вспоминал, как сын в детстве говорил: когда ты умрешь, я вот эти книги выброшу, а эти отдам в переплет – и думал, что это время уже не за горами… Он острым глазом подмечал у сына стариковские привычки – говорить на какую-то тему одно и то же, одними и теми же словами… но предположить, что переживет Николая Корнеевича, – никак не мог.
«Прости меня, Колечка, не думал я тебя пережить. В голову не приходило, что я буду видеть облака, деревья, клумбы, книги, когда все это для тебя тлен и прах».
"Мариночка, родная, любимая, – писал он жене сына. – Вот мы и осиротели.
Для меня это так непривычно, так противоестественно, так странно, что кажется, будто и небо надо мною стало другое, и вид из окна другой. Как поразительно закручена его жизнь, сколько в ней было творческих радостей, сколько титанической работы – что, наряду с БОЛЬЮ, есть какое-то восхищение, какая-то радость о гармоническом человеке. Будьте, друг мой, спокойнее, чувствуйте, что мы все любим и любили Вас обоих неотделимо, что любовь наша, общая, должна облегчить Вам Ваше лютое страдание. Я пишу чепуху, но я сам – стал идиотом – и целую Вас – целую еще раз, целую и плачу, плачу и целую. Ваш дед".
15 ноября 1965 года Корнея Ивановича перевезли в Кунцевскую больницу с сердечным приступом.
Глава одиннадцатая
Трудное прощание
Вечерняя радуга
Смерть сына, такая неожиданная и нелепая, надолго выбила Чуковского из колеи. Иногда кажется, что смерть ведет с ним самим затяжной поединок, и каждая новая смерть близкого человека обессиливает, отправляет в нокаут. И каждый раз он опять встает и находит силы жить, но удары наносятся все чаще, а подниматься все труднее.
Он непрестанно думает о сыне. О том, как переживет горе его семья. О том, что делать теперь с его литературным наследием – воспоминаниями, над которыми работал Николай Корнеевич, его последними рассказами. Заглушая горе, пытается работать. И всю зиму, и всю весну не находит себе места, и вспоминает сына – не взрослым мужчиной, уже дедом, не маститым автором знаменитого романа – а мальчиком, который «мечтал» на берегу Балтийского моря и сочинял фантастические истории, и смешно вскрикивал, купаясь в холодной воде… «И не верится, что именно сейчас он лежит в гробу под землей и весенние ручьи протекают к нему, к его черепу! А сегодня начали петь соловьи, и это такое проклятие!» – невозможно, дико и странно в 83 года пережить своего 60-летнего сына.
И Чуковский уходит с головой в работу. Потому, что она позволяет не думать о горе, разрывающем душу. И потому, что времени осталось мало. Последние годы Чуковский прожил как будто при включенном таймере обратного отсчета – таймере, напоминающем с каждой новой смертью: время истекает, осталось немного… осталось еще меньше… еще меньше…
Сроки человеку знать не дано, поэтому он сам ставит себе сроки, контрольные точки; современники вспоминают, что К. И. часто назначал дату своей смерти: умру тогда-то. Может быть, к этому сроку следовало закончить какое-то дело – дело заканчивалось, и таймер снова заводили, дату отодвигали дальше, и снова начинался обратный отсчет, снова он торопился написать, сделать, закончить. И похлопотать, помочь, добиться… И приговаривал, как вспоминала Клара Лозовская: «Поторопимся споспешествовать благим намерениям».
Тратил себя щедро, помогал много, слушал, сочувствовал, писал письма, звонил по телефону в нужные инстанции (звонить не любил, писал на бумажке текст, который нужно произнести). И, не экономя времени, потраченного на заботу о других, – старался расходовать оставшееся время как можно бережнее: это последняя, единственная его драгоценность.
Лозовская пишет: «Он всегда все понимал и мог простить. Не прощал одного – зря отнятого у него времени. Он часто с грустью повторял, что не успеет сделать всего, что задумал. И до исступления жалел свои утренние часы. А когда кто-нибудь отрывал его от работы, доходил до неистовства, до криков: „Негодяи, как смели помешать мне!“»
В постоянной борьбе со временем, со смертью, с самим собой он пишет свои последние статьи. Пишет, как обычно, тяжело, браня себя за немочь, превращая черновики в замысловатые коллажи с перечеркнутыми строками, вписками, добавлениями, подклейками, добиваясь полновесности и емкости каждой фразы. Так, с огромным трудом, в это время было написано предисловие для томика Пастернака в «Библиотеке поэта». Получилось оно, как обычно, крепким, легким, звучным, – и, самое важное, адекватным содержанию тома.
Чуковского-критика часто упрекали в том, что он «не открыл ни одного нового таланта». Читая позднюю критику К. И., невольно вспоминаешь его ответ на предложение некой вузовской преподавательницы почитать ее студентам неопубликованного Блока: да они и опубликованного-то не читали…
Последние статьи Чуковского – о Зощенко, об Ахматовой, о Пастернаке открывают для общества не новые таланты, а неоцененное классическое наследие, которым это общество не сумело распорядиться; они расставляют нужные акценты и ставят на место сдвинутую историческую и литературную перспективу.
Издательство, конечно, не могло согласиться на то, чтобы вот прямо так сразу и заявить читателю безоговорочно, что Пастернак гениальный поэт. Оно сочло необходимым вставить в предисловие несколько слов о «сложном и противоречивом пути» Пастернака; Чуковский сам совсем недавно издевался в «Живом как жизнь» над этим стандартным биографическим клише: "Если биографу какого-нибудь большого писателя почему-либо нравятся его позднейшие вещи и не нравятся ранние, биограф непременно напишет, что этот писатель «проделал сложный и противоречивый путь». Идет ли речь о Роберте Фросте, или о Томасе Манне, или об Уолте Уитмене, или об Александре Блоке, или об Илье Эренбурге, или о Валерии Брюсове, или об Иване Шмелеве, или о Викторе Шкловском, можно предсказать, не боясь ошибиться, что на первой же странице вы непременно найдете эту убогую формулу, словно фиолетовый штамп, поставленный милицией в паспорте:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: