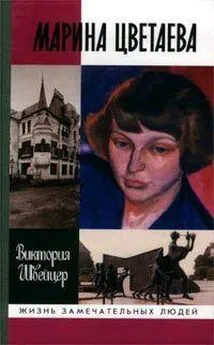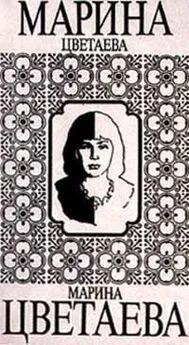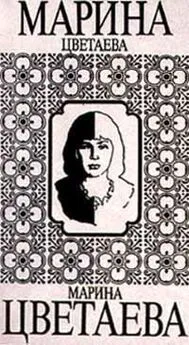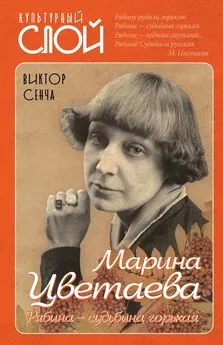Виктория Швейцер - Марина Цветаева
- Название:Марина Цветаева
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Молодая Гвардия»6c45e1ee-f18d-102b-9810-fbae753fdc93
- Год:2002
- Город:Москва
- ISBN:5-235-02547-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктория Швейцер - Марина Цветаева краткое содержание
Биография Марины Цветаевой полна драматизма, как судьбы многих героев Серебряного века. И все же жизнь этой женщины-поэта не похожа на жизнь большинства ее современников. Борясь с труднейшей реальностью, преодолевая быт, Цветаева жила на высотах духа, открывая читателям просторы Бытия.
Книга Виктории Швейцер – исследование, написанное на основе многолетней работы в архивах, встреч со знавшими Цветаеву людьми, серьезного и плодотворного анализа ее творчества. Автор повествует о своей героине с мудрой любовью понимания, приближая читателя к неповторимому миру этой высокой и одинокой души.
Марина Цветаева - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Анализируя в «Письме к Амазонке» природу сафической любви, стремясь понять причину ее неизбежного, как считает Цветаева, краха, —она приходит к выводу, что крахом кончаются поиски души, что именно душа противится этой любви.
Летом пятнадцатого года Цветаева пишет сестре мужа Лиле: «Соня меня очень любит и я ее люблю – и это вечно, и от нее я не могу уйти». Они с Парнок живут в это время в Святых горах Харьковской губернии. С ними Аля и няня. Перед этим все они – еще и с сестрами – провели два месяца в Коктебеле. Это почти семья. Сергея Эфрона уже несколько месяцев нет дома, он санитаром отправился на войну. Душа Марины разрывается между ним и Парнок. В ее отношении к «Соне» сплелось многое – в том числе и тоска по матери, которой у нее давно нет. В стихотворении к Парнок, уже после разрыва, Цветаева вспоминает о своей дочерней привязанности к Подруге:
В оны дни ты мне была, как мать,
Я в ночи тебя могла позвать...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Благодатная, вспомяни,
Незакатные оны дни,
Материнские и дочерние...
Эти стихи вторят написанным до них стихам Софии Парнок – о душевной борьбе между страстью и материнским чувством:
«Девочкой маленькой ты мне предстала неловкою» —
Ах, одностишья стрелой Сафо пронзила меня!
Ночью задумалась я над курчавой головкою,
Нежностью матери страсть в бешеном сердце сменя.
Нечто греховное, отталкивающее, противное естеству женщины чувствует Цветаева в своих отношениях с Парнок даже в самый разгар страсти. Уже недели через две после знакомства в стихах, описывающих ночное свидание, прорывается:
Очерк Вашего лица
Очень страшен.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Вы сдались? — звучит вопрос.
– Не боролась...
Голос от луны замерз...
Немного спустя:
Рот невинен и распущен,
Как чудовищный цветок [45].
Что-то в Цветаевой противится этой любви настолько, что тема разрыва, желание разрыва начинают слышаться в стихах очень рано и идут параллельно ревности, признаниям в любви, клятвам верности и обидам. Весной 1915 года проговариваются «канун разлуки», «конец любви», «твоя душа мне встала поперек души» и в результате – отчаянное:
– Счастлив, кто тебя не встретил
На своем пути!
Кажется, она знает, что не в силах сама оторваться от Парнок, от этой «треклятой страсти» и заклинает отпустить ее:
– Зачем тебе, зачем
Моя душа спартанского ребенка?
Душа ее рвется прочь. Она просит подругу оставить ее:
– Благословляю Вас на все
Четыре стороны!
И наконец завершает цикл почти грубостью – или мольбой:
И идите себе... – Вы тоже,
И Вы тоже, и Вы.
Разлюбите меня, все разлюбите!..
Неважно, кому принадлежит «честь разрыва». Вероятно, обе в какой-то момент рванулись друг от друга, и у каждой на то были свои причины: у Парнок – следующее увлечение, у Цветаевой – стремление освободиться от чар этой почти нестерпимой страсти. Они расстались с чувством взаимной горечи. Мало того что отношения с Парнок были тяжелы самой Цветаевой, они не могли не омрачаться той раной и обидой, какую наносили Сереже. Она отдавала себе в этом отчет и мучилась. В том же письме из Святых гор, где она пишет сестре мужа о своей любви к «Соне», она говорит и о Сереже – и не старается бодриться или обманывать себя: «Сережу я люблю на всю жизнь, он мне родной, никогда и никуда от него не уйду. Пишу ему то каждый, то – через день, он знает всю мою жизнь, только о самом грустном я стараюсь писать реже. На сердце – вечная тяжесть. С ней засыпаю и просыпаюсь...» «О самом грустном», «вечная тяжесть» – это об отношениях с Парнок. Она знала, что близкие беспокоятся о ней и Сереже. В письмах Е. О. Волошиной к художнице Юлии Оболенской – из коктебельского круга – откровенно говорится о делах Эфронов. Пра любит Сережу и Марину, она – крестная маленькой Али, ее беспокоит судьба этой семьи. Впервые она упоминает о «романе» Марины 30 декабря 1914 года – как о деле уже известном: «...Вот относительно Марины страшновато: там дело пошло совсем всерьез. Она куда-то с Соней уезжала на несколько дней, держала это в большом секрете. Соня эта уже поссорилась со своей подругой, с которой вместе жила, и наняла себе отдельную квартиру на Арбате. Это все меня и Лилю очень смущает и тревожит, но мы не в силах разрушить эти чары...» Выражение «Соня эта» подчеркивает неприязнь Пра к Парнок; она – чужая и враждебная. За Марину страшно, тревожно и в какой-то мере стыдно («смущает»), но мудрая Пра смотрит на вещи трезво: «чары» сильнее возможностей разумного убеждения. Проходит всего три недели, и мы с удивлением узнаем из ее письма, что, оказывается, и у Сережи был какой-то роман: «У Сережи роман благополучно кончился, у Марины усиленно развивается и с такой неудержимой силой, которую ничем остановить нельзя. Ей придется перегореть в нем, и Аллах ведает, чем это завершится...» [46]Волошина воспользовалась сострадательным наклонением неслучайно: «придется перегореть» означает, что поведение Марины вне ее собственной воли. И Марина горела на этом огне, коченела на этом морозе («Ваш маленький Кай замерз, / О Снежная Королева...») – так формировалась ее душа взрослого человека. Аделаида Герцык заметила это, получив письмо от Цветаевой: «...Марина, наконец, выходит из своего замкнутого детского круга, – большое страдание (выделено мною. – В. Ш. ) постигло ее и выковывает из ее души новую форму» [47].
Но что за роман у Сережи? Всего три недели назад на него не было и намека, а сейчас он «благополучно кончился». Мне ничего не известно об этом, но я могу предположить, что в ответ на Маринино увлечение Парнок, чтобы смягчить ожесточение близких против нее, может быть, даже, чтобы облегчить ее совесть, Сережа придумал себе какой-то роман. Он относился к Цветаевой на уровне такого высокого преклонения, которое не могло быть разрушено ее увлечениями и изменами. Случай с Парнок был первым в их жизненном опыте, но и позже позиция Эфрона оставалась неизменной: не противостоять, не бороться – отойти, переждать, когда страсть перегорит в Марине. Мне довелось беседовать с К. Б. Родзевичем – героем лирических поэм Цветаевой «Поэма Горы» и «Поэма Конца». На вопрос, как относился к их роману С. Я. Эфрон, Родзевич ответил: «Он предоставлял ей свободу, устранялся...» Ранней весной 1915 года, вероятно чтобы «устраниться», Сергей Эфрон, оставив университет, поступил братом милосердия в военный санитарный поезд. Могло ли это не мучить Марину?
Окончательный разрыв с Парнок произошел в феврале шестнадцатого года. Цветаева «перегорела», «освободилась от чар», но что-то сломалось в ней за эти полтора года, что-то безвозвратно ушло, и она знала об этом и отметила в стихах:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: