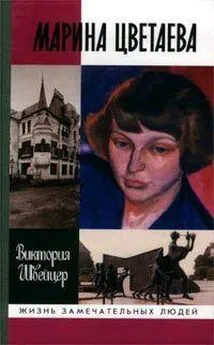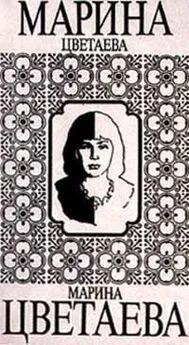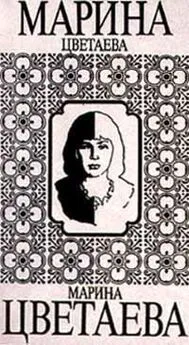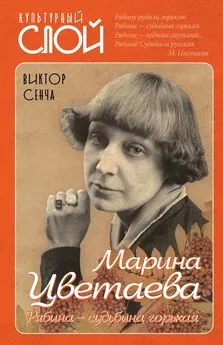Виктория Швейцер - Марина Цветаева
- Название:Марина Цветаева
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Молодая Гвардия»6c45e1ee-f18d-102b-9810-fbae753fdc93
- Год:2002
- Город:Москва
- ISBN:5-235-02547-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктория Швейцер - Марина Цветаева краткое содержание
Биография Марины Цветаевой полна драматизма, как судьбы многих героев Серебряного века. И все же жизнь этой женщины-поэта не похожа на жизнь большинства ее современников. Борясь с труднейшей реальностью, преодолевая быт, Цветаева жила на высотах духа, открывая читателям просторы Бытия.
Книга Виктории Швейцер – исследование, написанное на основе многолетней работы в архивах, встреч со знавшими Цветаеву людьми, серьезного и плодотворного анализа ее творчества. Автор повествует о своей героине с мудрой любовью понимания, приближая читателя к неповторимому миру этой высокой и одинокой души.
Марина Цветаева - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Из рук моих – нерукотворный град
Прими, мой странный, мой прекрасный брат.
По це́рковке – все́ сорок сороков,
И реющих над ними голубков;
И Спасские – с цветами – ворота́,
Где шапка православного снята;
Часовню звёздную – приют от зол —
Где вытертый – от поцелуев – пол;
Пятисоборный несравненный круг
Прими, мой древний, вдохновенный друг.
К Нечаянныя Радости в саду
Я гостя чужеземного сведу.
Червонные возблещут купола,
Бессонные взгремят колокола,
И на тебя с багряных облаков
Уронит Богородица покров,
И встанешь ты, исполнен дивных сил...
– Ты не раскаешься, что ты меня любил.
Можно предположить, что стихи эти в какой-то степени – ответ на его религиозно-философские искания, которыми он делился с Цветаевой. Они говорили о московском периоде русской истории – прогулки по старой Москве не могли не вызвать этой темы. Цветаева пишет в эти дни стихи «Димитрий! Марина! В мире...», обращенные в «смутное время» к царевичу Димитрию, Димитрию Самозванцу и Марине Мнишек, чья судьба всегда ее привлекала. Они кончались строфой:
Марина! Димитрий! С миром,
Мятежники, спите, милые.
Над нежной гробницей ангельской
За вас в соборе Архангельском
Большая свеча горит.
Не вместе ли с Мандельштамом зашли они в Архангельский собор и поставили свечу у гробницы царевича Димитрия? Мандельштам тоже упоминает Архангельский собор:
Архангельский и Воскресенья
Просвечивают как ладонь —
чудится, будто сквозь стены собора пробивается свет той большой свечи из стихов Цветаевой...
Ключевое стихотворение тех дней – мандельштамовское «На ро́звальнях, уложенных соломой...». Оно загадочно, его ассоциации поддаются разной трактовке, и все же именно в нем Мандельштам отвечает и на стихи Цветаевой, и на собственные размышления. Он больше не чужеземец, он принимает в себя судьбу России, ее историю и сливает с нею свою судьбу. Стихотворение начинается «московской» строфой: кто-то «мы» – кто? Мандельштам с Цветаевой, может быть? – едут в санях по Москве. Но слова «едва прикрытые рогожей роковой» вызывают почти уверенность, что они не столько добровольно едут, сколько их везут.
На ро́звальнях, уложенных соломой,
Едва прикрытые рогожей роковой,
От Воробьевых гор до церковки знакомой
Мы ехали огромною Москвой.
Мгновенно, резко происходит смена кадра: вторая строфа переносит читателя в Углич. Оказывается: да, действительно, везут. Но уже не «нас» (никакого «мы» больше не будет), а «меня» – кого? Зачем и куда «меня» везут вопреки такой мирной спокойной уездной жизни и почему зажжены три свечи – кто покойник? Предчувствие казни как бы нависло над санями.
А в Угличе играют дети в бабки,
И пахнет хлеб, оставленный в печи...
По улицам меня везут без шапки,
И теплятся в часовне три свечи.
Не три свечи горели, а три встречи:
Одну из них сам Бог благословил,
Четвертой не бывать, а Рим далече, —
И никогда он Рима не любил.
Я не возьмусь расшифровать или пересказать прозой эту строфу. В ее подтексте изречение «Москва – Третий Рим, а четвертому не бывать». Ясно главное: для лирического героя Москва духовно ближе, чем Рим. Но соединяясь с Москвой, Мандельштам не зачеркивает свою любовь к Риму. В признании «никогда он Рима не любил» поэт сознательно отчуждается от героя. До этого момента в стихах были «мы» или «я» («меня»), здесь же «не любил» – «он». Кстати, если героя везут на казнь, то читатель остается в неизвестности за что: за то ли, что он никогда не любил Рима, или за то, что он его любил, а нынче от него отрекается.
Теперь Мандельштам чувствует Россию изнутри. Он научился слушать ту «подземную музыку русской истории», о которой сказано в его «Барсучьей норе». В нем нет больше ни удивления, ни восторга чужеземца. Так просто и трезво может видеть окружающее только свой. То, что мелькает перед ним, пока сани везут его – по Москве? по Угличу? – русская повседневность, тянущаяся столетия, вне зависимости от эпох и катаклизмов, происходящих с отдельными людьми.
Ныряли сани в черные ухабы,
И возвращался с гульбища народ.
Худые мужики и злые бабы
Лущили семя у ворот [65].
Сырая даль от птичьих стай чернела,
И связанные руки затекли:
Царевича везут, немеет страшно тело,
И рыжую солому подожгли...
Комментируя эти стихи, Н. И. Харджиев в последней строфе видит связь с царевичем Алексеем, сыном Петра Великого, которого везут по приказу отца из Москвы в Петербург на казнь. Но, возможно, Мандельштам имел в виду Лжедимитрия – царевича Димитрия, сознательно стирая грань между лже и настоящим царевичем. Ведь и Цветаева в стихах «Димитрий! Марина! В мире...» вводит нас в сомнение – царевич ли Димитрий был убит в Угличе? И самозванец ли Лжедимитрий?
Взаправду ли знак родимый
На темной твоей ланите,
Димитрий, – всё та же черная
Горошинка, что у отрока
У родного, у царевича
На смуглой и круглой щечке
Смеясь целовала мать?
Воистину ли, взаправду ли...
Но Алексея или Димитрия везут в мандельштамовских санях со связанными руками и онемевшим телом – это сам поэт: божественный мальчик, отрок, прекрасный брат цветаевских стихов. «На ро́звальнях, уложенных соломой...» – ответ Цветаевой, разрешение тем, возникших в их диалоге, катарсис. Принимая из ее рук Москву, Россию, Мандельштам принимает ее всю, со всем светом и тьмою, какие в ней есть. Это отчетливо скажется в его следующем стихотворении «О этот воздух, смутой пьяный...», которое начинается «на черной площади Кремля», а кончается внутренним светом:
Архангельский и Воскресенья
Просвечивают, как ладонь, —
Повсюду скрытое горенье,
В кувшинах спрятанный огонь.
Отныне это и его огонь. Мандельштам никогда не раскается, что принял дар от Цветаевой, и никогда от него не отречется. Вобрав в себя всю Россию, став частицей ее истории, он заранее предвидит и гибель – от нее ли, с нею ли – будущее покажет. «На ро́звальнях, уложенных соломой...» – ответ на цветаевские пророчества, предчувствие и принятие гибели.
Скорее всего ни Цветаева, ни Мандельштам по-настоящему не осознавали, что значила для каждого из них эта встреча. В дни их дружбы ей было 23, ему – 25 лет. За него это осмыслила его вдова в своей «Второй книге». «Дружба с Цветаевой, – писала Надежда Мандельштам, – по-моему, сыграла огромную роль в жизни и в работе Мандельштама (для него жизнь и работа равнозначны). Это и был мост, по которому он перешел из одного периода в другой. <...>Цветаева, подарив ему свою дружбу и Москву, как-то расколдовала Мандельштама. Это был чудесный дар, потому что с одним Петербургом, без Москвы, нет вольного дыхания, нет настоящего чувства России, нет нравственной свободы...» [66]
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: