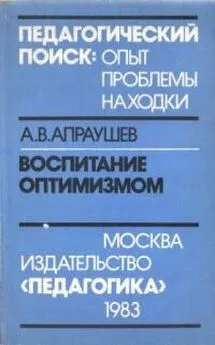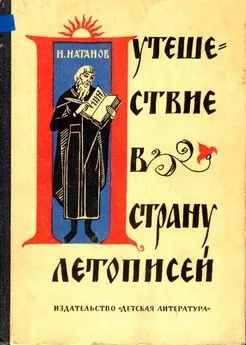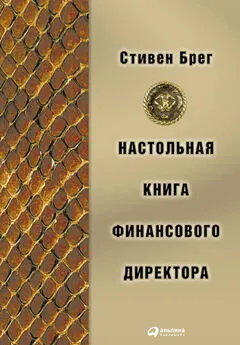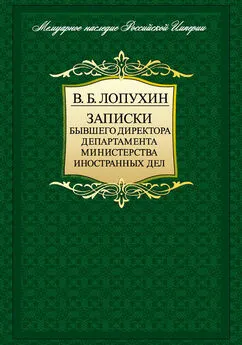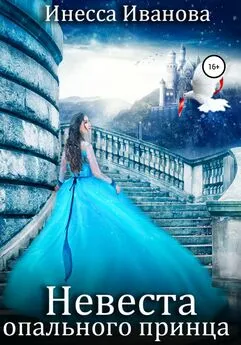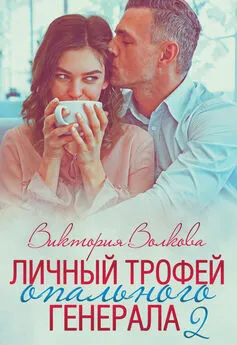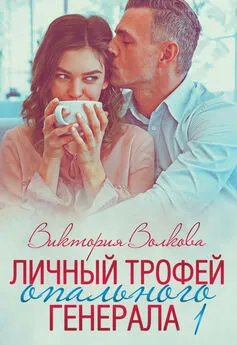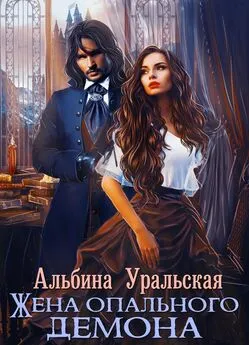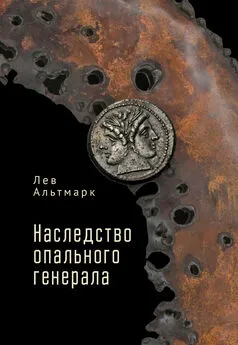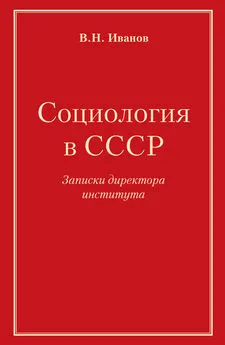Натан Гимельфарб - Записки опального директора
- Название:Записки опального директора
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Натан Гимельфарб - Записки опального директора краткое содержание
Записки опального директора - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вечером, как обычно, пришла Аннушка и я поделился с ней этой новостью. Она заметила грусть и уныние на моём лице от сознания моей обречённости остаться навсегда инвалидом. Мой перевод в глазной госпиталь означал, что врачи признали своё бессилие в попытке восстановить подвижность в моём коленном суставе.
Аннушка успокаивала меня тем, что это означает скорый конец моему долгому и мучительному лечению, и окончательную победу жизни над смертью, а также приближает день, когда мы навсегда будем вместе. Она обещала приезжать в новый госпиталь так же часто, как теперь, несмотря на то, что до него нужно будет долго добираться пригородным поездом.
Не знала ещё тогда моя милая и добрая Аннушка, что прошлой бессонной ночью я принял очень трудное, но твёрдое решение о поиске пути и предлога для разрыва наших отношений.
50
Посёлок Забрат находился в часе езды от Баку. Сюда шли пригородные электропоезда. Для специализированного глазного госпиталя здесь отвели Дом культуры нефтяников, расположенный рядом с благоустроенным парком. Как и у любого другого клуба, основную площадь здания занимал просторный зрительный зал с креслами на несколько сот человек, сценой и экраном для демонстрации кинофильмов. Подобные заведения для нефтяников тогда отличались оснащённостью новейшей аппаратурой, роскошной мебелью и богатым убранством помещений.
В Доме культуры было просторное фойе с паркетным полом, библиотека и комплекс помещений для буфета, которые ничем не уступали таковым в приличном ресторане. На втором этаже этого большого здания были комнаты для кружковой работы, которые теперь использовались, как госпитальные палаты.
Основателем, руководителем и главным специалистом госпиталя был профессор Орлов, возглавлявший до войны глазную клинику в Ростове и сумевший вывезти из прифронтового города в столицу Азербайджана большую часть оборудования, медтехники и инвентаря, а также группу учёных и врачей. Среди них была и дочь профессора Вера - кандидат медицинских наук и оперирующий врач-офтальмолог.
Здесь, в Забрате, в госпитале профессора Орлова, был образован Центр лечения глазных болезней, вызванных огнестрельными ранениями и ожогами. Благодаря знаниям, опыту и трудолюбию врачей-окулистов тысячам солдат и офицеров за годы войны было возвращено зрение.
Всего в госпитале было немногим более трёхсот коек и мест постоянно не хватало. Многие ждали возможности попасть в госпиталь профессора Орлова по несколько месяцев.
Несмотря на настойчивые просьбы Николая Павловича поместить его в одной палате со мной, мы на этот раз оказались в разных палатах, так как у нас были разные лечащие врачи. Однако, я по-прежнему проводил большую часть времени с ним и Васей. Вместе мы ходили после ужина в кино, где я восполнял своим рассказом то, что не мог видеть на экране Николай Павлович. Как и раньше, я читал им газеты и комментировал прочитанное.
Всем нам были назначены и проведены операции и определён курс лечения. Эффективным оно оказалось только для Васи, у которого после операции зрение было почти полностью восстановлено. Николаю Павловичу и мне были сделаны несколько операций, позволившие нам пользоваться протезами. Ему - на оба глаза, а мне на одном. Всё это заняло много времени. Прошла зима, наступила весна, а мы всё ещё оставались в госпитале.
Когда я ещё находился в хирургическом госпитале, я отправил несколько запросов в различные адреса по поводу своих братьев. К сожалению, в полученных мною ответах не было ничего утешительного или обнадёживающего, но я продолжал писать. Уже из Забратского глазного госпиталя я отправил более двадцати писем, но ничего определенного в ответ не получил.
Почта приходила в библиотеку и там раскладывалась в ячейки специального ящика по алфавиту. Ходячие больные сами забирали письма из этих ячеек, а тяжелобольным их приносили в палату. Опасаясь пропажи писем, я приходил в библиотеку ежедневно задолго до прихода почтальона и сам тщательно проверял всю поступающую корреспонденцию.
Как-то военком госпиталя Абдулаев, заметив моё пристрастие к почте, спросил не согласился бы я взять на себя функции получения и раздачи почты на общественных началах. Я дал согласие и стал разносить по палатам не только письма, но и газеты и журналы. Теперь я больше не сомневался в сохранности поступающих в госпиталь писем.
Моя волонтерская работа пришлась по душе больным. Я не только своевременно доставлял им письма, но многим из них, и в первую очередь незрячим, читал их вслух, а нередко писал и ответы под диктовку.
Военком был очень доволен моей работой и вскоре, с моего согласия, возложил на меня и ряд функций клубной работы. Штатного клубного работника в госпитале не было и мне была поручена организация лекций и бесед, подготовка и проведение киносеансов и концертов, оповещение о планируемых мероприятиях и другое. Эта работа нравилась мне и я был доволен, что могу приносить какую-то пользу.
Однажды, в конце марта, перебирая поступившую почту, мне в глаза бросился треугольник со знакомым почерком Сёмы, который я не мог спутать ни с каким другим. На лицевой стороне письма дважды значилась моя фамилия: в верхней части треугольника, где был адрес получателя и в нижней части, где указывается адрес отправителя. Одинаковыми были и отчества только имена были разными. Марки тогда на воинских письмах не требовалось, вместо неё стоял отчётливый штамп с номером полевой почты - 972.
Дрожащими руками я развернул письмо, из которого узнал, что Сёма находится сейчас в том месте, куда приковано внимание всего человечества и где решается судьба войны. Не нужно было быть очень догадливым чтобы понять, что он находился тогда в Сталинграде, в городе, на который после поражения под Москвой немцы бросили отборные танковые и моторизованные дивизии, главные резервы своей авиации и артиллерии. Во главе их войск были самые прославленные немецкие генералы, включая не знавшего ещё серьёзных поражений, генерал-фельдмаршала Паулюса.
Сёма просил немедленно ему ответить по указанному в письме адресу, после чего он отправит мне денежный перевод и окажет другую необходимую помощь. Из письма я также узнал, что после сдачи архива и материальных ценностей Винницкому военкомату в последние дни июня, он пытался вернуться в Красилов, но это оказалось невозможным, так как там уже были немцы. Он с трудом пробрался в Проскуров, где сдал машину-полуторку в горвоенкомат, откуда и был направлен в воинскую часть, покидающую город. О судьбе оставшихся в Красилове, Староконстантинове, Немирове и Славуте родственников ему ничего не было известно, так как все они остались на оккупированной территории.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: