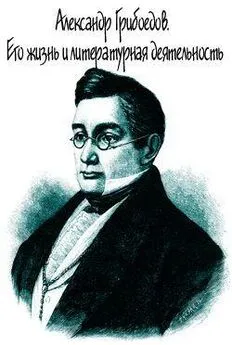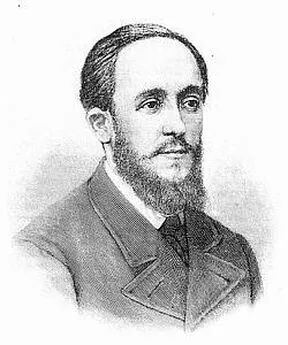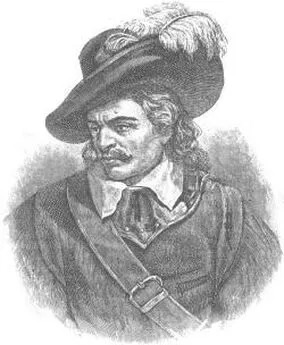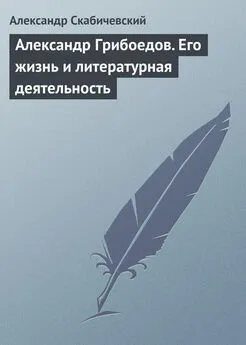Евгений Соловьев - Александр Герцен. Его жизнь и литературная деятельность
- Название:Александр Герцен. Его жизнь и литературная деятельность
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:3bd93a2a-1461-102c-96f3-af3a14b75ca4
- Год:2007
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Соловьев - Александр Герцен. Его жизнь и литературная деятельность краткое содержание
Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.
Александр Герцен. Его жизнь и литературная деятельность - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
…Не так ли умирает человек? Посланник божий, светлый, улыбающийся, подойдет к страдальцу, протянет руку – и тело мертво, а душа родилась в царство духа и свободы. Как ясно стало в душе моей, когда я держал ее руку; казалось, не о чем было и говорить, а когда стали говорить, говорили так, ничтожные вещи. Разлука укрепила нашу симпатию, дала возможность придти в себя, в сознание, превратиться в сущность жизни, в самую жизнь. Только тогда пало несколько слов, которые носят в зародыше мир чувствований, мыслей, дел. «Брат, – сказала она прощаясь, – в дальнем крае помни, что твоя память о ней ей так необходима, как жизнь». Мы простились. Время опустило меч свой».
Герцен, как и прежде, оставался с глазу на глаз со своим сторожем Терентьичем, отставным солдатом. Но день свободы был уже близок – по крайней мере той свободы, которую может дать ссылка. Ссылка грозила неминуемо, Герцен это знал, но не сделал ничего, чтобы предотвратить ее. На допросах он держал себя гордо и независимо и произвел на своих судей впечатление нераскаянного грешника. За это-то главным образом он и должен был отправиться в Пермь.
Настало 10-е апреля. В жизни Герцена это был день, создающий собой эпоху.
Всей его важности он и сам не понимал сначала. Молодость, вера в себя и свои силы разукрасили ожидавшуюся ссылку, и он думал, что легко перенесет ее. А между тем не было бы ссылки – не было бы, вероятно, и эмиграции, и страшного душевного раскола, который эмиграция принесла за собой. Ссылка обидела Герцена. Его гордая, независимая душа возмутилась той бесцеремонностью, с которой посягали на его личность. Покорности и смирения не было в его натуре. Он не умел, как Витберг, как Достоевский, вобрать в себя обиду и находить своеобразное наслаждение даже в страданиях. Он считал, что с ним поступили несправедливо, и его характер требовал мести. Из мальчика-либерала он благодаря постоянному специальному вниманию к себе сделался непримиримым врагом всего, что давит человеческую личность, что накладывает на нее какие бы то ни было кандалы и путы. О ссылке всю свою жизнь он говорил с ненавистью, со злобой, иногда просто со злостью, – со злостью силы, которая видит, что не может отомстить так, как желает, и должна удовлетвориться лишь стрелами иронии, даже не долетающими до цели.
Это чувство личной неприкосновенности, доводимое порою до крайности, до «нигилизма», как выражается Страхов, до ненависти ко всякому гнету, до отрицания всякого подчинения, очень характерно. Оно как нельзя лучше оправдывает не раз прилагавшийся к Герцену эпитет «европеец», так как табунного, массового начала – того то есть, которое многие считают сущностью славянской натуры, – в нем не было и следа.
Но вместе с тем ссылка, как бы ничтожны и пошлы ни были ее впечатления, значительно приблизила его к земле, к действительности, сведя с высоты школьного идеализма, питавшегося Шиллером.
Настало, повторяю, 10-е апреля. Несколько утренних часов прошли в утомительных и скучных формальностях.
«Наконец, – пишет Герцен, – я в коляске, за заставой.
Не было сил еще раз взглянуть на Москву – да и Бог с ней. Колокольчику отвязали язычок – мы едем. Вдруг провожатый, спокойно куривший трубку, привстал на козлах, снял фуражку и стал креститься, говоря моему камердинеру: «Креститесь, почем знать, увидим ли Кремль и Ивана Великого». Фу! Я бросил извозчику четвертак, чтобы он поскорее ехал, и ямщик поскакал: ветер – буря! На другой день я с любопытством смотрел на губернский город. Воспитанный во всех предрассудках столицы, я был уверен, что за сто верст от Москвы и от Петербурга – Варварийские степи, Несторово Лукоморье, и крайне удивился, что губернский город похож на дальний квартал Москвы».
Несколько дней быстрой езды по весеннему скользкому снегу, несколько дорожных приключений при переправах через реки, две-три остановки в губернских городах, – и под свинцовым нависшим небом Герцен увидел как бы в беспорядке брошенную группу деревянных построек вдоль берега широкой, могучей реки. Это была Пермь. Здесь следовало остановиться, надолго, как предполагалось, и всего на двадцать дней в действительности. Герцена отправили из Перми в Вятку, так как другой ссыльный просился на его место. Пермь или Вятка? Что лучше или что хуже? Ему было безразлично…
«В Перми, – вспоминает он, – я не успел оглядеться; там только хозяйка дома, к которой я пришел нанимать квартиру, спрашивала меня, нужен ли мне огород и держу ли корову, – вопрос, по которому я с ужасом вымерил мое падение с академических высот студенческой жизни. Пермь была для меня ad lectionem, настоящий текст – в Вятке… Не думая, не гадая, я уехал из Перми дней через двадцать, и через пять с половиною суток вялая волна Вятки подвигала мой досчаник [10]к крутому берегу, на котором красовалось длинное желтое неуклюжее здание губернского правления. Опять fatum! A я грустно подвигался к Вятке, душа предчувствовала много ударов, падений, грязи, мелочей, пыли, – это было в 1835 г., 20-го мая, вечером…»
Очень малоопытный в жизни и брошенный в мир, совершенно ему чуждый после девяти месяцев тюрьмы, Герцен жил сначала рассеянно, без оглядки; от нового края, от новой обстановки рябило в глазах. Его общественное положение сильно изменилось. В Перми, в Вятке на него смотрели совершенно иначе, чем в Москве: там он был молодым человеком, жившим в родительском доме; здесь, в провинциальном болоте, он стал на свои ноги, был принимаем за чиновника и жениха, хотя ни к одному из этих «ремесел» не питал ни малейшей склонности. Нетрудно было ему догадаться, что без большого труда он мог играть роль светского человека в заволжских и закамских гостиных и быть львом в вятском обществе… Только зачем все это?
«В силу кокетливой страсти de l’approbativité, [11]– признается он, – я старался нравиться направо и налево, без разбора кому, натягивал симпатии, дружился по десяти словам, сближался больше, чем нужно, сознавал свою ошибку через месяц или два, молчал из деликатности и таскал скучную цепь неистинных отношений до тех пор, пока она не обрывалась бессмысленной ссорой, в которой меня же обвиняли в капризной нетерпимости, в неблагодарности, непостоянстве…»
Первое время он жил не один. Вместе с ним отец отправил Карла Ивановича Зонненберга, того самого, который когда-то провожал его на первую лекцию. Карл Иванович немедленно же по приезде принялся за дело, то есть за покупку ненужных вещей, всякого хлама, всякой посуды, кастрюль, чашек, хрусталя, запасов и даже лошади. Когда в Перми все было готово и монтировано на барскую ногу, Герцена перевели в Вятку. Здесь Зонненберг проявил еще большую ревность.
«В Вятке он купил уже не одну, а трех лошадей, из которых одна принадлежала ему самому, хотя тоже была куплена на деньги моего отца. Лошади эти подняли нас чрезвычайно в глазах вятского общества».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: