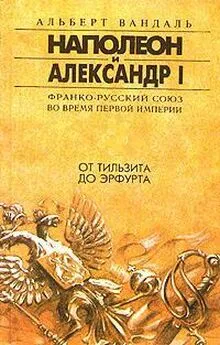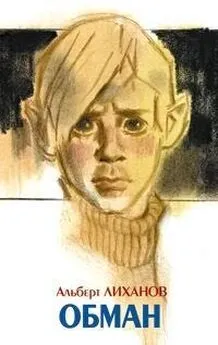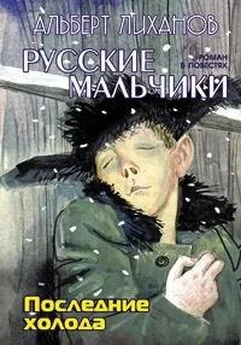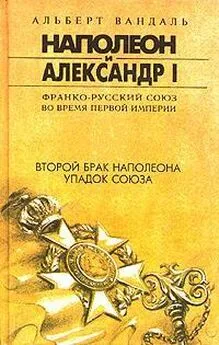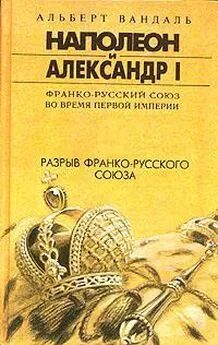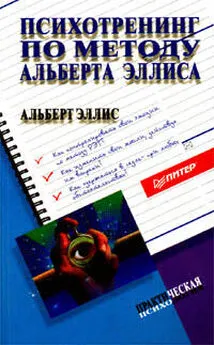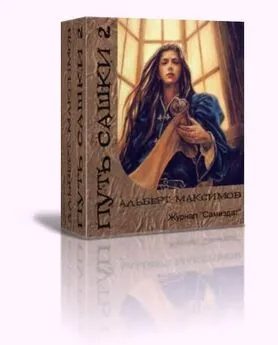Альберт Вандаль - От Тильзита до Эрфурта
- Название:От Тильзита до Эрфурта
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Феникс
- Год:1995
- Город:Ростов-на-Дону
- ISBN:5-85880-233-8, 5-85880-235-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Альберт Вандаль - От Тильзита до Эрфурта краткое содержание
Франко-русский союз во время Первой империи» – одно из самых известных сочинений крупнейшего французского историка, члена Французской Академии графа Альберта Вандаля (Albert Vandal) (1853–1910). Этот фундаментальный трехтомный труд был впервые издан во Франции в 1891–1893 годах и удостоен первой премии Гобера, затем он многократно переиздавался в конце XIX – начале ХХ веков. В книге раскрываются корни политического устройства Новой Европы, которое создавалось в начале XIX века в ходе наполеоновских войн. Франция и Россия в тот период играли ключевые роли в европейской политике. В своем глубоком, основанном на огромном количестве источников, исследовании Альберт Вандаль показывает, как шаг за шагом обе державы и их императоры подходили к войне 1812 года, решившей судьбы России и Европы. В рассмотрении политических событий исследуемого периода историк делает акцент на взаимоотношениях Александра I и Наполеона, их личных качествах и психологии.
От Тильзита до Эрфурта - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Ответ.Мне кажется, я понимаю вас, Ваше Величество. Вы делаете мне честь говорить со мной о деле, о котором он мне говорил, но не дал никаких инструкций.
Царь.Мне показалось тогда, что Император, который судит о делах лучше, чем кто-либо, также сознает, что Турецкая империя не может долго существовать среди европейских государств. Мы много об этом говорили, и, признаюсь, что, если Турция в один прекрасный день рухнет, положение России позволяет ей надеяться унаследовать известную часть ее останков. Император так добр, что понимает меня, и я всецело положусь на него, когда, по его мнению, наступит время… Я очень рассчитываю на чувство дружбы, которое он выказал ко мне… Я не буду ускорять этого момента…”. [174]И не настаивая более, ограничиваясь только этим скромным напоминанием, Александр тотчас же вернулся к менее щекотливым вопросам. Он заговорил о других государствах, о их поведении, которое порицал, о их представителях в Петербурге, которых не щадил, выражал к Франции полную симпатию, к нашему послу беспредельную благосклонность и Савари удалился польщенный, очарованный приемом, в восторге от любезного монарха, который не скрыл от него своих самых сокровенных мыслей.
Увы! За блестящими вечерами шли тяжелые дни. Савари скоро заметил, что у Александра не было двора в строгом смысле этого слова. Строй его жизни был похож на семейный быт богатого человека, живущего со своими друзьями, окруженного тесным кружком, который он себе избрал и которого не расширял. У него почти не было официальных приемов и никогда не бывало парадных обедов и церемоний, ибо в таком случае ему пришлось бы “сидеть на возвышении и представительствовать в роли государя”. [175]Когда генерал, удивленный такой простотой, спрашивал, где же найти в Петербурге блеск, торжественность, царскую обстановку с ее обаянием и влиянием, ему ответили, что за этим надо идти к вдовствующей императрице.
Мария Феодоровна, супруга Павла I, мать Александра, после трагической ночи, когда она сделалась вдовой, сохранила в России положение, которому не было примера. Ее сын, вступив на престол, пожелал, чтобы она сохранила свой прежний ранг, присвоенные ему доходы и почетные права. Сверх того, так как он питал отвращение к церемониалу и любил только тесный кружок или чисто военные торжества, смотры и парады, он в некотором роде, разделил царские обязанности и, оставив за собой заботы о делах, уступил матери представительство. Мария Феодоровна вполне подходила к роли, предоставленной ей ее сыном. Несмотря на то, что прошло уже много времени с тех пор, когда она впервые появилась при дворе Екатерины II, в расцвете молодости, прекрасная и “чистая”, [176]ее годы и несчастье еще более возвели ее на пьедестал. Достойный подражания образ жизни, ее благоговейное, доходящее до театральности поклонение прошлому, неизгладимое воспоминание о перенесенных ею испытаниях, которые ранили ее сердце, не затуманив ясности ее чела, внушали к ней всеобщее уважение. В прежние времена ею или восхищались, или жалели ее, теперь ее боготворили. Всегда готовая творить добро, она заведовала делами благотворительности, царствовала над бедными и в империи своего сына создала свое собственное государство, основанное на любви и благодарности. Но при всем том рожденная для двора, зная в совершенстве и поддерживая при своем дворе службу придворных чинов, любя этикет и вводя его в малейшие подробности жизни, без утомления перенося долгие часы представлений ко двору, доводившие до изнеможения ее придворных дам, она считала своей главной задачей выставлять самодержавие в самой привлекательной его форме и в этом полагала свою гордость. Она продолжала играть роль царствующей императрицы, давала приемы, занимала трон, окружала себя многочисленным двором, при котором дворы ее четырех живших при ней младших детей были как бы спутниками большого светила. Только при ней можно было видеть службу придворных дам, камергеров, шталмейстеров, пажей, блеск больших приемов и церемониал официальных представлений. Поэтому-то все, кто стремился ко двору или не мог без него обойтись, представлялись императрице-матери, так как только при ней была придворная жизнь. Вполне естественно и без всяких усилий со своей стороны Мария Феодоровна сохранила за собой все почести, поклонение, словом, весь тот культ, который воздается царствующим особам. Власть прошлого удержала при себе всех приверженцев, которых настоящая власть не пожелала к себе привлечь. Вдовствующую императрицу являлись благодарить за всякое назначение, за всякую пожалованную милость, хотя бы даже она не принимала в этом никакого участия; ей представлялись и целовали руку вновь произведенные или награжденные орденом офицеры. [177]Хотя она обыкновенно жила в Павловске, в двенадцати лье от Петербурга, знать считала своей обязанностью показываться на ее приемах, по крайней мере, раз в две недели. Александр сам бывал там два раза в неделю. Старый двор – такое название давали императрице-матери и ее приближенным – оставался, таким образом, великой общественной и светской силой в России, и, не имея власти, сохранял влияние. [178]
В политике роль старого двора можно было бы сравнить с ролью верхней палаты в конституционном правительстве. Неподвижный, мало способный к прогрессивному движению, хранитель традиций, он сдерживал деятельность государства: он мешал уже своим бездействием. Чтобы какое-либо мероприятие было безрезультатным, часто достаточно было того, чтобы он его не одобрил. Он не утвердил еще мира с Наполеоном, и присутствие французского посла было для него делом несуществующим. Савари скоро убедился в этом на самом себе. “30, – говорит он, – я был представлен императрице-матери в Таврическом дворце; прием был холоден и не продолжался и одной минуты”. [179]
Это было для генерала сигналом к неприятностям. Он приехал в Петербург в самый разгар лета. Летний сезон не остановил, а только переместил светскую жизнь. Официальная Россия, т. е. все семьи, которые в течение полувека занимали придворные и государственные должности, покидали тогда столицу, но оставались вблизи ее и селились на островах. В этой части города, где величественная Нева, разделенная на множество рукавов, особенно привлекательна и красива, летние помещения, дворцы и дачи, разбросанные на лужайках и в лесу, между ее извилинами, были все заняты. Там проживали министры, влиятельные особы, придворные, любители весело пожить и светские львицы. Держались отдельными кружками. На Островах виделись часто; всюду царили роскошь и веселье. Днем нарядные экипажи, запряженные четвериком, шестериком и восьмериком, бороздили аллеи; вечером дачи сияли огнями, в лесу импровизировались концерты на духовых инструментах, громкие звуки которых далеко разносились в воздухе. За блестящими городскими приемами следовали собрания без соблюдения этикета, обеды на восемь, десять и двенадцать особ, прогулки по великолепным садам графа Строганова, расположенным террасами на одном из рукавов реки. По-видимому, веселая, широкая жизнь представляла Савари подходящий случай для более близкого знакомства с русским обществом и для того, чтобы наблюдать за ним в его семейном обиходе. Он добросовестно постарался найти туда доступ. Он расписался у высокопоставленных лиц; ему не отдали визита. Он возобновил попытку, опять сделал визиты, и снова не был принят. Как будто быстро распространился лозунг, и русское общество замкнулось в своих кастовых предрассудках, в национальной вражде и отказалось от всякого общения с иностранцем, который был его победителем и не принадлежал к его обществу. [180]
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: