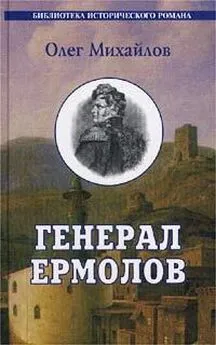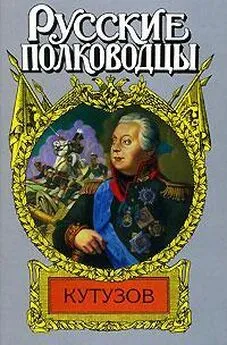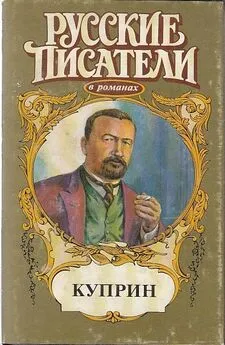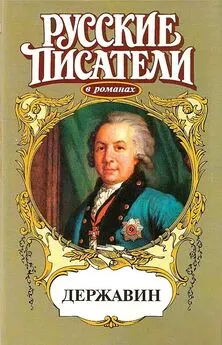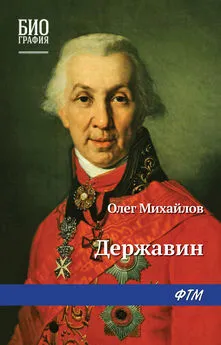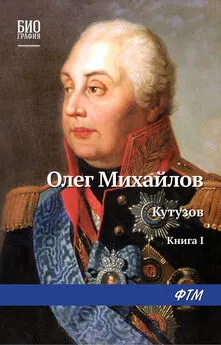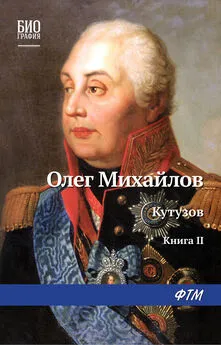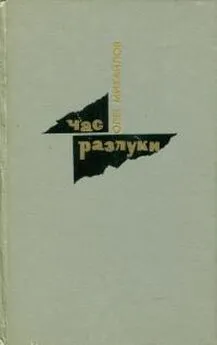Олег Михайлов - Суворов
- Название:Суворов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1973
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Михайлов - Суворов краткое содержание
Эта книга рассказывает о великом русском полководце — непобедимом А. В. Суворове (1729–1800), с именем которого связаны громкие победы русского оружия во второй половине XVIII в.: Очаков и Кокшаны, Рымник и Измаил, Польский и Итальянский походы, знаменитый переход через Альпы. Писатель Олег Михайлов, используя богатый документальный материал, живо и увлекательно воссоздает образ Русского Марса, который был воистину «отец солдатам». Автор показывает своего героя не только на поле битвы. Он раскрывает личную драму Суворова, передает его горячую любовь к дочери Наташе — «Суворочке» и неприязнь к трутням-вельможам. А. В. Суворов сегодня — один из символов могучей и великой России, ее народный гений.
Суворов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Суворов обнял своего чтеца:
— Браво, мой друг! Ты избрал для себя превосходное общество. Присоедини же к ним и Петра Первого. Учись скорее по-русски, чтоб познакомиться с сим новым Прометеем, с сим государем, вмещающим в себе многих наилучших государей! — Он оглядел своих офицеров. — Нуте, господа! Кто мне скажет о Генрихе Четвертом?
Храбрые воины сидели понурив головы.
— Сей государь, — несмело начал новичок, нарушивший перед обедом субординацию, — был вождем французских гугенотов, королем Наварры и отличался веселонравием и доступностию. Астролог Нострадамус предсказал ему по звездам великую будущность…
Генерал-аншеф просиял, выскочил из-за стола, подбежал к офицеру и принялся потчевать его редькою — знак особливой милости. Затем, продолжая экзамен, он обратился к невозмутимо сидевшему в продолжение всего обеда де Волану:
— Что есть глазомер?
— Не знаю, ваше сиятельство, — глядя на него в упор, спокойно ответствовал де Волан.
Суворов переменился в лице.
— Проклятая немогузнайка! — Он отбежал от стола и громко зачастил: — Намека, догадка, лживка, лукавка, краснословка, двуличка, вежливка, бестолковка, недомолвка, ускромейка. Стыдно сказать, от немогузнайки много беды! — Генерал-аншеф снова подступился к голландцу: — Что есть глазомер?
— Не знаю, ваше сиятельство!
В смятении Суворов велел растворить окошки и двери и принести ладану, чтобы очистить воздух от заразительного немогузнайства. Все было напрасно. Де Волан никак не хотел говорить «знаю» о таких вещах, которых не знал. Он уже встал из-за стола и в ответ на реплики генерала что-то кричал сам, раскрасневшись лицом и размахивая руками. Суворов бросил в сердцах:
— Не умеет песья нога на блюде лежать, валяйся под столом!
Голландец повернулся, несмотря на свою дородность, ловко вскочил на подоконник — и был таков. Никто еще не успел рта раскрыть, как за ним сиганул в окошко и Суворов.
Прошло несколько тягостных минут. Но вот офицеры заслышали голос своего генерал-аншефа:
— Глазомер! Сие быстрый обзор всех предметов для примерного определения числа и величины их. На войне влезай на дерево, как я при Рымнике. Увидел неприятельский лагерь, местоположение — и поздравил себя с победою!
Суворов появился в дверях, приятельски обнимая упрямого де Волана. Обращаясь к сидящим, сказал:
— Теперь я вижу, почему испанский, непобедимым названный флот Филиппа не мог устоять перед таким упорно грубым народом, каков голландский! И Петр Великий ощутил и оценил это!
2
Вторая половина 1790 года заметно улучшила международное и военное положение России. 3 августа был заключен мир со шведским королем Густавом. На Черном море командовать Севастопольской флотилией стал наконец Ф. Ф. Ушаков, а бесталанный Войнович вернулся на Каспий. В генеральном сражении между Аджибеем и Тендрою 28 августа Ушаков разгромил турецкую флотилию капудан-паши. Дистанция ружейного, даже пистолетного выстрела — и в картечь! — таков был тактический прием Ушакова, этого Суворова на море, приносивший неизменный успех. Победа при Тендре очищала море от неприятельского флота, мешавшего русским судам пройти к Дунаю для содействия армии в овладении крепостями Тульча, Галац, Браилов, Измаил. Потемкин вновь воспрянул духом. «Наши, благодаря Богу, такого перца задали туркам, что любо, — писал он. — Спасибо Федору Федоровичу. Коли б трус Войнович был, то бы он с…л у Тарханова Кута, либо в гавани».
Теперь действиям русских не мог даже помешать выход Австрии из войны. Трогательным было расставание Кобурга с Суворовым. Принц всецело поддался нравственному обаянию русского полководца. В своем прощальном письме Суворову он с полной искренностью написал:
«Ничто не опечаливает меня столько при моем отъезде, как мысль, что я должен удалиться от вас, достойный и драгоценный друг мой! Я познал всю возвышенность души вашей; узы дружества нашего образовались обстоятельствами величайшей важности, и при каждом случае удивлялся я вам, как достойному человеку. Судите сами, несравненный учитель мой! сколько сердцу моему стоит разлучиться с мужем, имеющим толики права на особенное мое уважение и привязанность. Вы одни можете усладить горесть судьбы моей, сохранив ко мне то же расположение, котораго по сей день меня удостаивали, и я уверяю вас со всею искренностью, что частые уверения в вашей ко мне дружбе необходимо нужны мне для моего благоденствия… Вы останетесь навсегда дражайшим другом, котораго ниспослало мне небо, и никто не будет иметь более вас прав на то высокое почитание, с коим я есмь…»
В свой черед, великий русский полководец нашел в Кобурге честного союзника, которому мог довериться вполне. Объясняя, как была достигнута победа под Рымником, Суворов заметил:
— Первая двигательная причина наших успехов была наша взаимная дружба, полная откровенности и искренности между мною и принцем Кобургским; до конца ценность этих отношений осталась неизменной; я не могу забыть этой нежной честности, столь редкой и, может быть, беспримерной, которую я неизменно чувствовал, без малейшей тени недоверия. Наша маленькая армия жила по-братски и делилась достоинством; двойственность, экивок, энигма были в ней серьезно запрещены…
С выходом австрийцев из войны в Систове начались переговоры турок с представителями европейских держав, враждебных России. Потемкину пришлось теперь действовать в узком коридоре турецкого Причерноморья: по соглашению с Портой Австрия обязалась не пускать русских в Валахию. Первые успехи были достигнуты быстро. Гребная флотилия под командованием де Рибаса очистила Дунай от турецких лодок. Генерал-поручик И. В. Гудович 18 октября взял Килию. Пока Рибас занимал Тульчу и Исакчу, Павел Потемкин еще 4 октября подошел к Измаилу. Но Измаил был не Килия, не Тульча и Исакча, а крепость «без слабых мест», как говорил Суворов.
Твердыня, укрепленная и перестроенная по проектам французских инженеров, представляла собою прямоугольный треугольник, вписанный в окружность длиною десять верст и гипотенузою обращенный к Дунаю. Катеты его образовывал шестиверстный главный вал вышиною от трех до четырех сажен, перед которым вдобавок шел глубокий и широкий ров. Измаил защищали около двухсот пятидесяти орудий разного калибра и тридцатипятитысячный гарнизон. Сераскир Мегмет Айдозле поклялся скорее умереть, чем сдать крепость.
Русские стягивали к Измаилу войска. В помощь Павлу Потемкину подоспел генерал-майор Самойлов. Отряды расположились полукружием в четырех верстах от города. Энергичный де Рибас, приведший флотилию, овладел большим дунайским островом Чатаил напротив крепости и начал возведение на нем батарей. С прибытием 24 ноября подразделений генерал-поручика Гудовича общая численность русских войск приблизилась к тридцати тысячам, однако половину их составляли слабо вооруженные казаки. Осадной артиллерии не было вовсе, а полевая имела лишь по одному комплекту боеприпасов. В продовольствии чувствовался острый недостаток. Солдаты обносились, устали. Сказывалось и отсутствие единоначалия в войсках. «Много там равночинных генералов, а из того выходит всегда род сейма нерешительного», — признавался позднее светлейший Суворову.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: