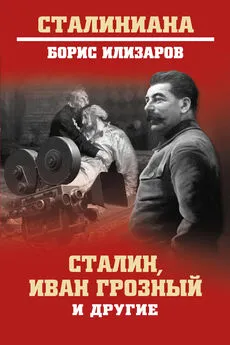Борис Флоря - Иван Грозный
- Название:Иван Грозный
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1999
- Город:Москва
- ISBN:5-235-02340-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Флоря - Иван Грозный краткое содержание
Мрачная фигура царя Ивана Грозного заслоняет собой историю едва ли не всего русского Средневековья. О нем спорили еще при его жизни, спорят и сейчас - спустя четыре столетия после смерти. Одни считали его маньяком, залившим страну кровью несчастных подданных. Другие - гением, обогнавшим время. Не вызывает сомнений, пожалуй, только одно: Россия после Грозного представляла собой совсем другую страну, нежели до него.
О личности царя Ивана Васильевича, а также о путях развития России в XVI веке рассуждает известный историк Борис Николаевич Флоря.
Иван Грозный - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Однако главное внимание царя в тот момент привлекало решение другого вопроса. Избрание Максимилиана II побудило его перейти к практическим шагам по формированию антиосманского союза. Захарий Сугорский, потомок белозерских князей, еще недавно по поручению Ивана IV возивший «поминки» в Крым, теперь повез в Вену «опасные грамоты» для «великих послов» Максимилиана II, папы и испанского короля, которых приглашали в Москву для заключения союзного договора.
Подготавливая почву для формирования такого союза, царь одновременно предпринял новые шаги для подготовки наступления на Крым и османские крепости в Северном Причерноморье. Зимой — весной 1576 года к гетману запорожских казаков князю Богдану Ружинскому было послано денежное жалованье, «запасы» и порох, и казаки «ялись государю крепко служити». Тогда же за днепровскими порогами появились и отряды «государевых», то есть московских служилых казаков. После новых нападений на крымские улусы, как сообщал в Москву русский гонец Иван Мясоедов, «за Перекопом, де, никово людей не осталось, все, де, за Перекоп збежали от казаков». Летом 1576 года под стенами крепости Ислам-Кирмен в низовьях Днепра произошло настоящее сражение между войсками хана и отрядами запорожцев и русских служилых людей, и татары были вынуждены отступить, бросив крепость на произвол судьбы.
Запись «Разрядных книг» о том, что воеводы и запорожские атаманы поспешили известить царя о взятии города, не оставляет сомнений в том, что поход на Ислам-Кирмен был инспирирован русским правительством. Все это вызвало серьезное беспокойство престарелого Девлет-Гирея, с тревогой вспоминавшего события, предшествовавшие взятию Казани: «Так, деи, он, — говорил хан о царе, — казаков напустил к Казани, дале, де, Свияжское поставил, а после, де, Казань взял».
На этот раз нападениями казаков дело не ограничилось. Получив известия об избрании Максимилиана II на польский трон, царь решил разорвать отношения с Крымом. Прибывшим от хана гонцам не выслали шуб и «встречново корму», а 26 апреля 1576 года царь «приговорил со всеми своими бояры и з дворяне, которые в думе у государя живут» крымских гонцов не принимать и сослать их в Углич. Через два дня, 28 апреля, было принято решение о выступлении царя в поход «на свое дело и на земское» в Калугу.
В походе царя сопровождала армия его удела во главе с Федором Михайловичем Трубецким и большая земская рать во главе с главой земской Думы князем Иваном Федоровичем Мстиславским. По специальному решению в этом походе воеводы должны были служить «без мест». Кроме этого большого войска, занявшего города на Оке от Коломны до Калуги, была организована «плавная судовая рать» во главе с князем Никитой Тюфякиным из трех полков; в их состав наряду со служилыми людьми из разных городов входили донские атаманы и казаки.
История словно возвращалась. Как и в конце 50-х годов, царь снова стоял войском на Оке, а «плавная рать» снова готовилась к морскому походу на Крым. Царь, по-видимому, ожидал известий об утверждении Максимилиана II в Речи Посполитой, чтобы дать «плавной рати» сигнал к походу Весь конец весны и почти все лето «государь и сын ево государев царевич Иван Московские ездили по берегу и смотрели бояр и воевод и дворян в всех полкех». Однако известия об увенчании императора Максимилиана II польской короной все не приходили.
Попытки магнатов распоряжаться польским троном вызвали резкую реакцию шляхты. Столкновение произошло на самом выборном поле и приняло самые резкие формы. Как сообщал русский гонец Семен Бастанов, ставший невольным свидетелем происходившего, магнаты, «убоявся всех шляхт, с великою боязнью до места (города. — Б.Ф.) утекли, а оне тех панов хотели побить». Со своего подворья гонец видел, как возмущенные шляхтичи «учали из луков и самопалов стрелять... так, де, нам над немцы делати» (немцы здесь, конечно, Габсбурги, стоявшие во главе Священной Римской империи германской нации). В противовес Максимилиану II шляхта выдвинула кандидатуру противника Габсбургов и вассала турецкого султана трансильванского воеводы Стефана Батория. Австрийские власти пытались задержать его на карпатских перевалах, но воевода сумел переехать в Польшу, где его сторонники заняли столицу страны Краков и завладели королевскими регалиями.
Первоначально царь не придал всему этому серьезного значения.
Однако с течением времени, когда выяснилось, что император медлит с вмешательством, а Баторий постепенно овладевает положением в стране, Иван IV стал проявлять серьезное беспокойство. В грамоте, отправленной Максимилиану II 11 июля 1576 года, он призывал своего союзника: «А промышлял бы, еси... о том деле наскоро, покаместа Степан Батора... на тех государствах... не утвердился». В условиях, когда вассал султана, пользовавшийся активной поддержкой Стамбула, сумел овладеть польским троном, планы большого антиосманского союза стали отходить на задний план. Царь приказал вернуть крымских гонцов в Москву, и Афанасий Нагой и Андрей Щелкалов стали выяснять, какие «поминки» следует уплатить хану, чтобы он заключил мирный договор с Иваном IV.
Если вопрос о создании антиосманского союза стал временно неактуальным, то, напротив, ясно обрисовывалась перспектива большого конфликта между Речью Посполитой и Габсбургами. Царь был уверен, что такие великие государи, как Габсбурги, не потерпят подобного ущерба для своей чести, какой нанесла им польская шляхта, и император будет оружием отстаивать свое право на польский трон. Весной 1576 года в Вене серьезно обсуждали планы военного вмешательства в дела Речи Посполитой. 8 апреля 1576 года Максимилиан II писал царю: «Семиграцкой воевода (Стефан Баторий. — Б.Ф.) хочет силою прав быти, татар, турков и иных многих своих товарищей на великую силу надеется, а мы против силы турского, как надобе быти, начаемся, что им не стерпим». При таком положении поддержка России становилась особенно необходимой, и Максимилиан II не жалел любезных слов, чтобы расположить к себе русского союзника. «А нам, — писал он царю, — то великая честь и слава стояти нам всем вместе за все христианство с великим приятельским братством. А опроче тебя, любителного брата, не могли себе такова любителна приискати, кто б за веру хрестьянскую так мог стояти». Можно себе представить, как ласкали слух Ивана IV такие слова, исходившие от первого государя христианского Запада.
Император сообщал, что 1 мая в Регенсбурге он собирает рейхстаг, на котором намерен просить помощи у имперских князей. В сентябре 1576 года, отпуская из Регенсбурга Захария Сугорского, император сообщал царю, что «в коротких часах» в Москву будут отправлены «великие послы» для заключения договора о союзе, очевидно, направленном против Батория. Император отпускал послов тяжелобольным, лежа на постели, и вскоре после их отъезда, 12 октября 1576 года, скончался. Это, однако, не положило конец конфликту. Сугорский сообщал царю, что преемник императора, его сын Рудольф II, «как его коронуют и ему итти на Батора и на поляки вскоре, и люди в войну конные и пешие собираются, а идти ему из Ведна (Вены. — Б.Ф.) на Краков». Правильность этих сообщений косвенно подкрепляла грамота Рудольфа II, отправленная вскоре после смерти отца, где говорилось, что, подобно отцу, новый император желает быть с царем «в братстве и в любви».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: