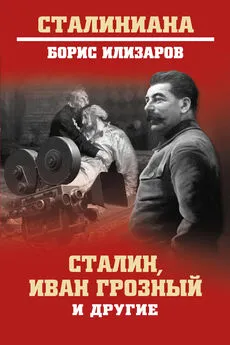Борис Флоря - Иван Грозный
- Название:Иван Грозный
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1999
- Город:Москва
- ISBN:5-235-02340-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Флоря - Иван Грозный краткое содержание
Мрачная фигура царя Ивана Грозного заслоняет собой историю едва ли не всего русского Средневековья. О нем спорили еще при его жизни, спорят и сейчас - спустя четыре столетия после смерти. Одни считали его маньяком, залившим страну кровью несчастных подданных. Другие - гением, обогнавшим время. Не вызывает сомнений, пожалуй, только одно: Россия после Грозного представляла собой совсем другую страну, нежели до него.
О личности царя Ивана Васильевича, а также о путях развития России в XVI веке рассуждает известный историк Борис Николаевич Флоря.
Иван Грозный - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Во-первых, стали известны новые данные о подозрительной активности Владимира Андреевича Старицкого и его матери в эти дни. Они посылали к князю Семену с предложением, чтобы тот «поехал ко князю Володимеру служить да и людей перезывал».
Во-вторых, круг лиц, вовлеченных в обсуждение вопроса о судьбе трона и о том, как избегнуть регентства Захарьиных, оказался гораздо более широким, чем можно было судить на основании рассказов приближенных царю сразу после его выздоровления. Помимо князей Ивана Турунтая-Пронского, Петра Щенятева, Дмитрия Немого-Оболенского в этих разговорах участвовали «Куракины родом, князь Петр Серебряный, князь Семен Микулинский и иные многие бояре и дети боярские и княжата». А главное — в свете других признаний князя Семена Ростовского эти разговоры приобретали иной контекст. Разговоры о том, что «чем нами владети Захарьиным, ино лутчи служити князю Владимиру Ондреевичю», были выражением недовольства «великих» (княжеских) родов политикой царя, покровительствовавшего родственникам своей жены и кругу их друзей из среды старомосковского боярства.
Признания князя Семена, несомненно, усилили сомнения царя в лояльности своего окружения и способствовали росту скептического отношения к советам Сильвестра и Адашева.
По-иному реагировала на происходящее Боярская дума. Если говорить о притязаниях Старицких князей, то ближние бояре, как видно из рассказа о царской болезни, не имели к ним никакого отношения и готовы были вместе с царем предпринять меры, которые предотвратили бы подобные действия с их стороны в случае новой болезни (или смерти) монарха.
Когда в марте 1554 года у царя родился новый наследник, царевич Иван, Владимир Старицкий должен был принести присягу на верность не только новому наследнику, но и вообще любому из сыновей Ивана IV, который в будущем сможет унаследовать его трон. Старицкий князь обязывался: «А кто мя учнет с тобою, государем моим, и с твоим сыном ссорити, и мне того не слушати, а сказать ми то вам в правду без примышленья, а не утаити ми того от вас никоторыми делы». Так Владимир Андреевич должен был поступать даже в том случае, если «на которое лицо учнет наводити» его собственная мать. Особой статьей устанавливалось, что старицкий князь не может держать на своем дворе в Москве «всяких людей» свыше 108 человек.
Совсем иной оказалась реакция советников царя на те сведения о разногласиях среди правящей элиты, которые стали известны в ходе следствия по делу князя Семена Ростовского.
С конца 40-х годов правительство последовательно вело курс на консолидацию правящей элиты, на смягчение противоречий между ее отдельными группировками, на их привлечение к совместному согласованному участию в управлении государством. Этой политики правительство продолжало придерживаться и в дальнейшем. Никаких репрессий по отношению к князьям, родственникам князя Семена, не было предпринято, да и он сам, по-видимому, сравнительно недолго просидел в тюрьме и получил возможность нести службу в составе «государева двора», хотя и лишился боярского сана. Позднее, обращаясь к Курбскому, царь с негодованием писал, что после осуждения князя Семена «поп Селивестр и с вами, своими злыми советники, того собаку учал в велице бережении держати и помогати ему всем благими и не токмо ему, но и всему его роду».
Причина снисходительности заключалась в том, что «ближние бояре» рассчитывали добиться консолидации правящей элиты не с помощью репрессий, а путем уступок «великим родам», устраняя те явления, которые вызывали их недовольство. О происшедших переменах нельзя узнать из официальной летописи, умалчивают о них в своих сочинениях и Иван IV, и Курбский. Лишь предпринятые сравнительно недавно В. Д. Назаровым и Р. Г. Скрынниковым исследования перемещений на важных государственных постах позволили составить представление об изменениях в жизни правящих верхов после 1554 года.
Наиболее значительные перемены произошли в положении главных представителей клана Захарьиных. С лета 1554 года Данила Романович Юрьев перестал исполнять обязанности дворецкого Большого Дворца, а затем и вообще утратил это звание. С конца 1554 года и Владимир Михайлович Юрьев утратил пост тверского дворецкого; в 1556—1558 годах он был воеводой в Казани, то есть фактически был отстранен от участия в управлении государством. Должность тверского дворецкого первоначально получил близкий к Захарьиным печатник (хранитель государственной печати) Никита Афанасьевич Фуников Курцов, но вскоре он попал в опалу и был надолго отстранен от участия в политической жизни. Близкий родственник Захарьиных, казначей Иван Петрович Головин, также к концу 1554 года утратил этот пост и был послан воеводой в Чебоксары. Одновременно в 1555—1556 годах состав Думы был пополнен представителями княжеских родов. Среди этих новых бояр были князь Андрей Михайлович Курбский, а также князь Андрей Иванович Катырев Ростовский, один из тех, кто собирался отъехать в Литву вместе с князем Семеном.
Разумеется, все эти перемены не могли произойти без согласия царя. К сожалению, мы не знаем, кто, как, с помощью каких аргументов сумел добиться этого согласия. Однако, с большой долей вероятности, можно предположить, что полные ожесточения отзывы царя о Сильвестре и Адашеве в его первом послании Курбскому, настойчивое изображение этих советников предводителями враждебных царю бояр объясняются тем, что именно Сильвестр и Адашев убедили царя согласиться на удаление тех его приближенных, деятельность которых вызывала недовольство знати. Так как все это касалось в первую очередь близких родственников царицы, то неудивительно, что в результате отношения Сильвестра и Адашева с Анастасией Романовной оказались безнадежно испорченными. В ее лице они получили врага, опасного своей близостью к царю. На обвинения в свой адрес советник и друг царя отвечали, судя по всему, обвинениями в адрес царицы. Не случайно позднее царь обвинил Сильвестра и Адашева в том, что они «на нашу царицу Анастасию ненависть зелну воздвигше и уподобляюще ко всем нечестивым царицам». Все это должно было способствовать охлаждению отношений царя со своими наставником и фаворитом.
Рассматривая происходящее в исторической перспективе, следует отметить, что победа Сильвестра и Адашева в середине 50-х годов была Пирровой победой. Царь не был убежден в правильности принятого решения, согласился на него под давлением и со временем проникался сочувствием к своим приближенным, отстраненным со своих постов. Об одном из них, Никите Афанасьевиче Фуникове, царь писал в 1564 году, обращаясь к Курбскому и другим враждебным ему боярам: «Что же о казначее нашем Никите Афанасьевиче (казначеем Фуников стал после опалы Сильвестра и Адашева. — Б.Ф.)! Про что живот напрасно разграбисте, самого же в заточение много лет в далных странах во алчбе и наготе держали есте?» Все это было явным и тенденциозным преувеличением: сохранившиеся от второй половины 50-х годов документы, оформлявшие поземельные сделки Фуникова, говорят о том, что дьяк, отстраненный от участия в политической жизни, не находился в заточении и не пребывал в «наготе», но ясно, на чьей стороне были симпатии царя.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: