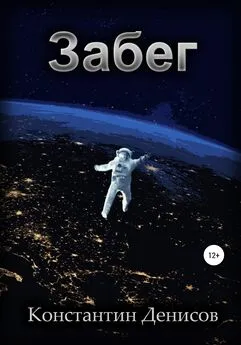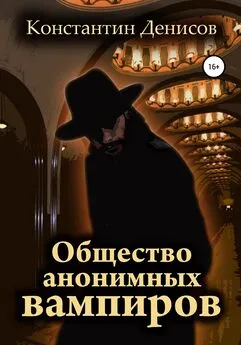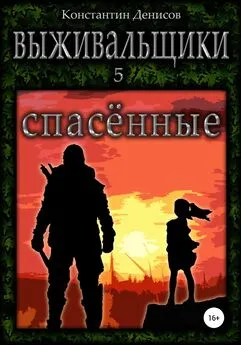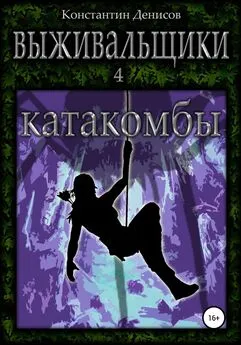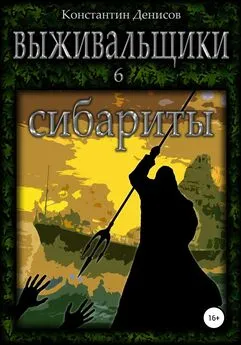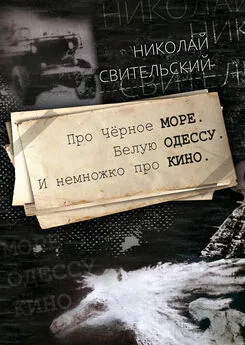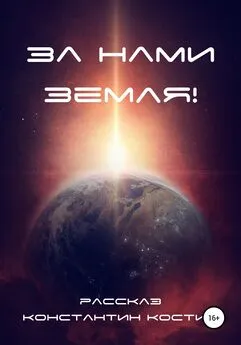Константин Денисов - Под нами - Чёрное море
- Название:Под нами - Чёрное море
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Денисов - Под нами - Чёрное море краткое содержание
На рассвете 22 июня 1941 года с крымских аэродромов поднялись по тревоге самолеты-истребители. Одну из групп морских летчиков повел на прикрытие Севастополя от вражеского воздушного налета старший лейтенант К. Д. Денисов — впоследствии генерал-майор авиации, Герой Советского Союза. Его мемуары — это правдивый рассказ о мужестве и мастерстве морских авиаторов, вместе с которыми автор сражался в небе Крыма и Кавказа, участвовал в разгроме японских милитаристов на Дальнем Востоке. Книга рассчитана на массового читателя.
[1] Так обозначены ссылки на примечания. Примечания в конце текста книги.
Под нами - Чёрное море - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Так меня экипировали в новое летное обмундирование, и под вечер я вместе с Филиппом Герасимовым и другими летчиками отправился в Севастополь.
Жалко было, даже временно, расставаться с боевыми друзьями, Херсонесом, огненным Севастополем. Но, думалось, разлука предстоит недолгая: повидаюсь с семьей, восстановлю силы, успокою немного нервы и вернусь к друзьям-севастопольцам…
Крейсер «Молотов», предвоенной постройки, имел мощное вооружение, большую скорость хода, высокие мореходность и живучесть. Он прибыл в осажденный Севастополь 5 января и в течение двух дней вместе с лидером «Ташкент» вел огонь по вражеским позициям.
На борт крейсера вместе с нами, летчиками, поднялось много военных и гражданских, в том числе женщин и детей. Кают и кубриков нам конечно же не досталось — все они были заняты преимущественно ранеными. Поэтому разместились кто где мог. А когда стемнело, крейсер без всяких сигналов отвалил от причала, стремительно вышел из Северной бухты и, набрав скорость, устремился в темноту.
Когда проходили мимо Херсонеса, летчики прильнули к иллюминаторам, но так и не смогли разглядеть что-нибудь на аэродроме. А потом там блеснули несколько разрывов вражеских снарядов, и захотелось крикнуть: "Держитесь, товарищи, мы скоро вернемся к вам!"
Медленно спадало многомесячное напряжение. Все еще не верилось, что плывем на отдых. В ушах по-прежнему возникали то шум мотора, то грохот рвущихся бомб и снарядов на аэродроме, то пулеметно-пушечная трескотня воздушного боя… И не спалось. А крейсер вздрагивал от большой скорости, стремительно шел на восток. Дважды за ночь выходил я с Герасимовым на палубу.
Море — спокойно, кругом ни зги, лишь невдалеке еле-еле просматривались приглушенные ходовые огни эсминца «Смышленый». Кое-как прокоротав время до рассвета, мы увидели на горизонте полоску Кавказского берега. И вскоре предстал перед нами во всем своем великолепии среди не тронутых войной пирамидальных тополей и эвкалиптов город и порт Туапсе.
Нас встретили два офицера и доставили на автобусе в штаб 62-й авиабригады, расположенной в полутора-двух километрах от порта. Поочередно каждого из нас расцеловал начальник штаба полковник П. Г. Коновалов — исключительно обаятельный, интеллигентный человек, высококультурный и опытный штабной командир — и пригласил нас в столовую. Я знал, что службу в авиации Павел Георгиевич начал в конце 20-х годов, много летал, а затем, получив высшее военное образование, перешел на штабную работу. За завтраком полковник Коновалов уточнил, кто и где будет отдыхать, а мне предложил, не теряя времени, сесть в автомашину и выехать в Новороссийск к генералу Ермаченкову.
Перед отъездом мне вручили денежное содержание за 4 месяца, денежный аттестат и последнее письмо от жены, в котором она писала из Харькова, что направляется в Саратов, где, вероятно, остановится у жены моего погибшего товарища.
Значит, лечу в Саратов! Узнав об этом, ко мне обратился старший лейтенант В. Г. Капитунов с просьбой «прихватить» с собой и его, ибо в сотне километров от Саратова, в Вольске, находились жена и дети Владимира Гавриловича. Капитунов в свое время окончил там школу техников, а перед войной переучился на летчика. Он летал на Як-1 и отлично воевал под Перекопом в эскадрилье И. С. Любимова, а в Севастополе — в эскадрилье М. В. Авдеева. Я охотно принял это предложение, тем более что свой техник может оказаться очень нужным на таком сложном и большом для легкого самолета маршруте.
Двинулись в путь с Капитуновым на эмке и через пару часов, миновав Архипо-Осиповку и Геленджик, въехали в Новороссийск. Кто мог тогда предположить, что осенью этого года здесь разразятся жестокие бои!
Василий Васильевич встретил нас приветливо, одобрил решение лететь вдвоем. УТ-2 уже был готов. Генерал вручил мне документ, или, как он назвал, "охранную грамоту", с заверенным печатью текстом: "Просьба ко
воем местным властям и воинским начальникам оказывать содействие тов. Денисову…"
Путь на легком учебно-тренировочном самолете УТ-2 оказался, как и ожидалось, далеко не легким. Вылетели в теплую погоду на колесах, которые в пути пришлось заменять лыжами. Обмораживались в неотапливаемых кабинах. Снегопады и метели задерживали на сутки-двое… Наконец Саратов! А семьи здесь не оказалось. Выяснил: теперь она в Казани.
Беда, как говорят в народе, в одиночку не приходит: УТ-2 я «одолжил» Капитунову для полета в Вольск. Он обещал быстро вернуться, а прислал телеграмму: "Самолет разбит, ремонту не подлежит". Словом, до Казани я добирался поездом трое суток.
Увидел наконец семью, понял, каково живется в тылу людям, когда все отдано фронту. Жена, прожив все до последней нитки, от недоедания еле двигалась, а четырехлетний сын в холодной комнате старого деревянного дома лежал сутками под ватным изношенным одеялом. Он был настолько худ, что у меня невольно навернулись на глаза слезы!
Брат трудился на заводе круглые сутки, сестра тоже, по ее выражению, "заворачивала гайки за так". Многие в то время поступали аналогично, помогая фронту всем, чем могли.
Оставшиеся от отпуска четыре дня промелькнули в сплошных заботах. Семье орденоносца-фронтовика власти помогли дровами, а главное, жена получила деньги и аттестат.
Пришла пора расставания. Были, конечно, и слезы. А тут еще по радио услышал, что 17 января наши войска оставили Феодосию…
Санитарный поезд еле двигался на Москву, но, случайно попав в него, счел, что мне повезло — хоть одним глазком взгляну на отца и мать, а потом уже любым транспортом — на юг! В период эвакуации им предлагали ехать в Казань, но отец (потомственный портной) и мать (ткачиха) ответили, что прожили в столице почти всю жизнь и из нее — никуда. При встрече убедился, что хотя настроение у них было не из веселых, но чувствовалась уверенность в победе над врагом, которую им вселили наступление наших войск под Москвой и особенно только что полученное сообщение об освобождении от немецко-фашистских захватчиков города Можайск, где все мы, Денисовы, родились, росли, учились…
Выкроив время из убывающего, как шагреневая кожа, отпускного срока, я прошелся по заснеженным улицам Москвы, с редкими в рабочее время прохожими на них, и с некоторым удивлением узнал, что в столице функционирует Художественный театр, в нем шла премьера спектакля А. Корнейчука «Фронт».
С бесконечными думами о настоящем и будущем ворочался я на голой полке полупустого холодного вагона, уносящего меня на юг. К вечеру почувствовал жар. В Ростове врач сказал жестко и однозначно: "Сыпной тиф!" Меня в полубеспамятстве погрузили в новороссийский поезд, а там направили в инфекционную больницу. Вот и третья беда!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: