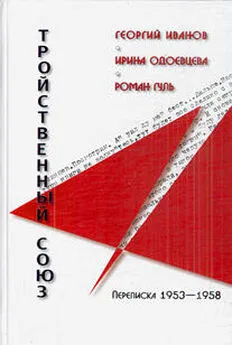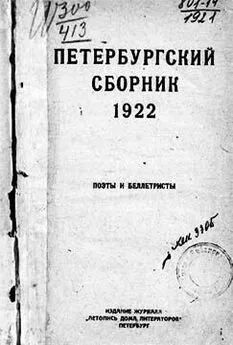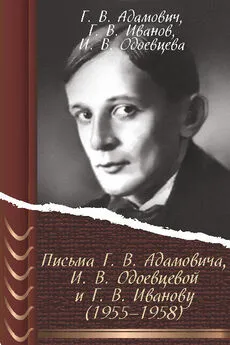Георгий Иванов - Петербургские зимы
- Название:Петербургские зимы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Георгий Иванов - Петербургские зимы краткое содержание
Петербургские зимы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Зачем пишется юмористика? — искренне недоумевает Мандельштам. — Ведь и так все смешно.
Раз мы проходили по Сергиевской, мимо дома, где года два назад Мандельштам, «временно» проклятый и изгнанный отцом (это случалось часто), жил у тетушки с дядюшкой. Жилось Мандельштаму там несравненно лучше, чем дома. И дядюшка, и тетушка ухаживали за племянником чрезвычайно. Тетушка, веселая, розовая, круглая, как шар, закармливала его чем-то жирным и вкусным, худощавый и лысый дядюшка потчевал хорошими папиросами, коньяком и совал в карман пятирублевки. Мандельштам тоже их искренне любил.
"Славные старики, милые старики…"
Мы проходили мимо дома этих "славных стариков". Я заметил на окнах их квартиры белые билетики о сдаче.
— Твои родные переехали? Где же они теперь живут?
— Живут?.. Ха…ха…ха… Нет, не здесь… Ха…ха…ха… Да, переехали…
Я удивился.
— Ну, переехали, — что ж тут смешного?
Он совсем залился краской.
— Что смешного? Ха…ха… А ты спроси, куда они переехали!..
Задыхаясь от хохота, он пояснил:
— В прошлом году… Тю-тю… от холеры… на тот свет переехали!
И оправдываясь от своей неуместной веселости:
— Стыдно смеяться… Они были такие славные… Но так смешно — оба от холеры… А ты… ты… еще спрашиваешь… Куда пе… Ха… ха… ха… Пе… переехали…
Смешлив — и обидчив.
Поговорив с Мандельштамом час, — нельзя его не обидеть, так же, как нельзя не рассмешить. Часто одно и то же сначала рассмешит его, потом обидит. Или — наоборот.
Это, впрочем, «общепоэтическое» — чувствовать обиды, настоящие и выдуманные, с необыкновенной остротой. И тут же смеяться и над ними, и над собой.
Мандельштам обижался за то, что он некрасив, беден, за то, что стихов его не слушают, над пафосом его смеются…
Ну, а Байрон? Он был красив, знаменит и богат, но зато прихрамывал. О, чуть-чуть, почти незаметно. А вряд ли не с этого прихрамывания пошел весь "байронизм"…
Да, это «общепоэтическое». Только о Мандельштаме как-то особенно «позаботилась» недобрая фея, ведающая судьбами поэтов. Она дала ему самый чистый, самый «ангельский» дар и бросила в мир вполне голым, беззащитным, неприспособленным… Барахтайся, как можешь.
Он и барахтался:
Нам ли, брошенным в пространстве,
Обреченным умереть,
О прекрасном постоянстве
И о верности жалеть!
Стихи, сочинявшиеся в Швейцарии или Гейдельберге русским студентом, удивлявшим местных жителей смешным клетчатым пледом, общипанными рыжими бачками и привычкой в учебные часы прогуливаться где-нибудь в парке, монотонно бормоча себе под нос (так стихи и сочинялись), стихи эти, рукопись которых потерялась вместе с Бергсоном и зубной щеткой, появились в ноябрьской книжке "Аполлона".
Дано мне тело. Что мне делать с ним,
Таким единым и таким моим?
За радость тихую дышать и жить,
Кого, скажите, мне благодарить?
Я и садовник, я же и цветок,
В темнице мира я не одинок.
Я прочел это и еще несколько таких же «качающихся» туманных стихотворений, подписанных незнакомым именем, и почувствовал толчок в сердце:
— Почему это не я написал!
Такая "поэтическая зависть" — очень характерное чувство. Гумилев считал, что она безошибочней всех рассуждений определяет «вес» чужих стихов.
Если шевельнулось — "зачем не я" — значит, стихи "настоящие".
Стихи были удивительные. Именно удивительные. Они прежде всего удивляли.
Я очень «уважал» тогда «Аполлон», чрезмерно, пожалуй, уважал. Сам еще там не печатался и на всех печатавшихся смотрел как на каких-то посвященных.
До этой ноябрьской книжки 1910 года все, печатавшееся в стихотворном отделе «Аполлона», я искренне считал поэзией. Но книжка со стихами Мандельштама впервые ввела меня в "роковое раздумье". Она выглядела особенной, непохожей на прежние. И не к украшению это ей служило…
Впервые блеск «Сребролукого» показался мне несколько… оловянным.
…На стекла вечности уже легло
Мое дыхание, мое тепло…
Стихи, подписанные неизвестным именем "О. Мандельштам", переливались, сияли, холодели, как звезды в воде. И от этого «звездного» соседства — очень уж явно обнаруживалась природа всего окружающего, — типографская краска и «верже» высшего качества.
Недели через две, в своей царскосельской гостиной, Гумилев, снисходительно улыбаясь (он всегда улыбался снисходительно), нас познакомил:
— Мандельштам. Георгий Иванов.
Так вот он какой — Мандельштам!
На щуплом теле (костюм, разумеется, в клетку, и колени, разумеется, вытянуты до невозможности, что не мешает явной франтоватости: шелковый платочек, галстук на боку, но в горошину и пр.), на щуплом маленьком теле несоразмерно большая голова. Может быть, она и не такая большая, — но она так утрированно откинута назад на чересчур тонкой шее, так пышно вьются и встают дыбом мягкие рыжеватые волосы (при этом посередине черепа лысина — и порядочная), так торчат оттопыренные уши… И еще чичиковские баки пучками!.. И голова кажется несоразмерно большой.
Глаза прищурены, полузакрыты веками — глаз не видно. Движения странно несвободные. Подал руку и сразу же отдернул. Кивнул — и через секунду еще прямее вытянулся. Точно на веревочке.
Заговорил он со мной, неизвестно почему, по-французски, старательно грассируя. На каком-то слишком «парижском» ррр… как-то споткнулся.
Споткнулся, замолчал, залился густой малиновой краской, выпрямился еще надменней…
Это он, совсем меня не зная, не сказав со мной ни одной связной фразы, — уже обиделся на меня. За что? — За то, что он не так что-то выговорил, или не так подал руку, и я это заметил и, про себя, что-нибудь непременно подумал…
А через четверть часа он за чаем смеялся до слез какому-то вздору, который я рассказал случайно. Что-то о везшем меня извозчике — чушь какую-то. Смеялся как ребенок, уткнувшись лицом в салфетку и задыхаясь.
Когда я услышал стихи Мандельштама в его чтении, я был удивлен еще раз.
К странным манерам читать — мне не привыкать было. Все поэты читают «своеобразно», — один пришепетывает, другой подвывает. Я без всякого удивления слушал и «шансонетное» чтение Северянина, и рыканье Городецкого, и панихиду Чулкова. И все-таки чтение Мандельштама поразило меня.
Он тоже пел и подвывал. В такт этому пенью он еще покачивал обремененной ушами и баками головой и делал руками как бы пассы. В соединении с его внешностью пение это должно было казаться очень смешным.
Однако не казалось.
Напротив, — чтение Мандельштама, несмотря на всю его нелепость, как-то околдовывало. Он подпевал и завывал, покачивая головой на тонкой шее, и я испытывал какой-то холодок, страх, волнение, точно перед сверхъестественным.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: