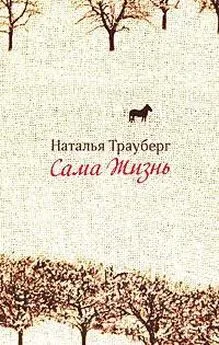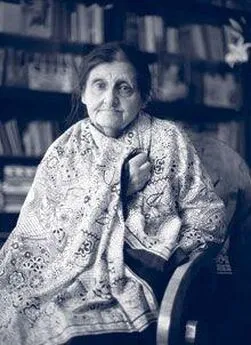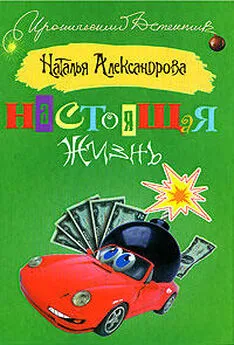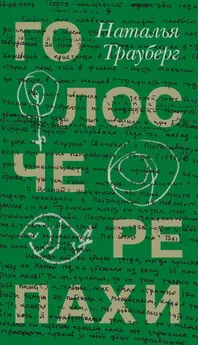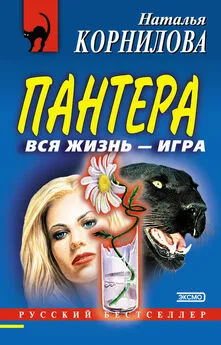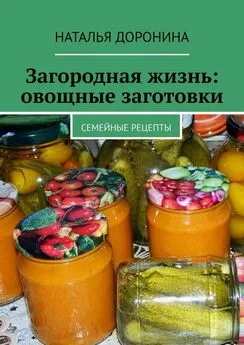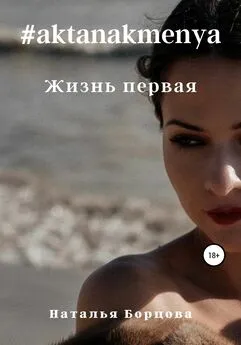Наталья Трауберг - Сама жизнь
- Название:Сама жизнь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2008
- Город:СПб
- ISBN:978-5-89059-113-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталья Трауберг - Сама жизнь краткое содержание
Книга Натальи Леонидовны Трауберг - известнейшего переводчика Г.К.Честертона, К.С.Льюиса, П.Г.Вудхауза - собрание статей, объединенных опытом противостояния тоталитаризму и бездуховности. Помещенные в книгу очерки - урок свободного общения, искреннего, сочувственного и заинтересованного. Среди тех, о ком рассказывает автор - о. Александр Мень, С.С.Аверинцев, Томас Венцлова, о. Георгий Чистяков и многие другие.
Сама жизнь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Моисей, Ор и Аарон вели себя намного лучше. Шла битва с амаликитянами, и все было хорошо, пока Моисей поднимал руки к небу. Но долго так не простоишь, и вот что они сделали: «взяли камень, подложили под него, и он сел на нём. Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца» (Исх 17,12).
Очень уместное занятие. Во всяком случае, это разумнее, чем бить Моисея по руке.
Сейчас мне скажут: «Нашли что сравнивать!» – и выяснится, что битва с амаликитянами, не говоря о 1991-м годе, куда лучше нынешних времен. Именно это я и слышу десять лет подряд. Много плохого случилось за эти годы, только и спасались держаньем рук (кто – как Моисей, кто – как его помощники). А советской власти, слава тебе, Господи, нет.
Можно поспорить о том, только лив наших сердцах такое зло. Но главного это не меняет: если у кого-то его больше, и оно противней, чем просто маммона и суббота (вещи, в конце концов, мирские, а не специально советские), побороть это можно все тем же способом – надеяться, не мучать других, улучшать себя.
Вместо ceterum censeo [ 39 ] Намек на известное выражение римского сенатора Катона Старшего: Ceterum censeo Carthaginem delendam esse – А кроме того, я полагаю, Карфаген должен быть разрушен (лат.). Ред.
напишу снова: советской власти нет. Представьте хоть на минуту, какая она -не в сентиментальных песнях и не в аберрациях памяти, а в очереди, в коммуналке, в непрестанных и злых советах, в крике гардеробщиц, подавальщиц и продавщиц, – словом, в том, что несчастные, измордованные люди норовят пнуть любого, кого не боятся. Особенно удивляют меня жалобы на нынешнее хамство. Жалобы на то, что распутство на виду, а не скрыто… Но это хоть не вранье! Ведь грубили на моих глазах все семьдесят с лишним лет, а сейчас – все-таки меньше.
Закон Биллингтона
Скажу сразу, что это название косвенно связано с неким американским руссистом. Собственно, вся связь – в том, что мысль (если это мысль) пришла и мне, и одному моему другу на его докладе в ГБИЛ. Насколько я помню, это было осенью 1991-го со всеми сопутствующими атмосферами.
Как часто бывает, разгорелся спор о «двух культурах» и даже «двух народах». Время от времени кто-нибудь да скажет, что после Петра возникли два русских народа – «высшие» (баре, потом – интеллигенция) и «народ» как таковой. Часто первых народом не называют. Подробнее говорить не буду: и без теорий многие почти машинально исповедуют такие взгляды, иначе не было бы ни народничества самых разных видов, ни страстных откатов от него, ни постоянных напоминаний: «Я тоже народ!». По-видимому, у нас это сильнее, чем в других странах – казалось бы, и в Средние века вилланы резко отличались от знати или патрициата. Но мы этого не взвешивали, спорят другие, чаще всего – те, кому такое положение не нравится, поскольку «чистенькие» – не совсем русские.
Сидим, все пылают (сторонники «народа» – больше), и вдруг я увидела пресловутыми глазами души больничную койку, на которой лежит моя временная соседка по страданию. С особой четкостью явилась и разница: одни из них – добрые, другие – нет. Те же Средние века резонно считали, что красоту определяют взгляд и улыбка. Действительно, определяют. Для дела – упрощу, все же это было что-то вроде видения: одни просто буравят взглядом, у других глаза лучатся светом. Заметим, речь идет не о той, мирской доброте, которая выражается во властности («Ай-я-яй, разве можно не кушать?»), а о cari-tas, сочувствии. Доброта-насилие ему противоположна, и взгляд от нее не засияет.
Когда мы шли домой с моим другом, он рассказал, что ощутил примерно то же самое. Стали прикидывать. Вот -дама, вот – тетка. Что у них общего? Пронзительная злость. Когда дамы стареют, они непременно обрастают теми самыми тетками, которых раньше презирали. Уже все равно, что та одета по другому (но тоже неотменимому) шаблону. Главное – можно вместе возмущаться всеми и всем. Когда такое сообщество к тебе привяжется (причину найдут, это легко) – беги: все равно не пощадят. Оправданий не может быть, на том они и сошлись.
А вот другой случай, тоже довольно давний, но я до сих пор не пришла в себя от удивления. Примерно к началу 1970-х стали умножаться подростки и молодые люди, пленившие меня, дуру, своей свободой. Лет двадцать, обрастая бородами, они и жили у
нас, и почти жили, и просто сидели до любого часа. Среди них оказалось несколько человек, действительно несовместимых с советской властью, и просто хороших, что бы это слово не значило. Но в целом все сводилось к «хочу» или «не хочу», что выражалось прежде всего в неправдоподобном хаосе. Именно тогда отец Станислав Добровольские сказал моей дочери перед конфирмацией: «Со всеми считайся, а туфельки ставь ровно». Молодые представители контркультуры допекали и его. Худшие из них долго мне кого-то напоминали, и вдруг я поняла: комсомольцев. На мою молодость пришлись скорее карьерные, но еще доживали и неумолимые. Вот этот самый взор – беспощадный – оказался у героев контркультуры. Улыбка в таких случаях вообще не полагается.
Разделением «милостивый» – «жестокий» не обошлось. Не помню, как у комсомольцев, но у моих маргиналов все чаще взгляд и улыбка выражали полнейшее равнодушие. Дело не в том, что молодые старели – никакая молодость не мешала особой, презрительно-равнодушной, мине. Вот тебе и два народа. Вряд ли это частность. Уже и моды давно сравнялись, нет двух обличий, и богатым (бедным) оказывается совсем не тот, кто думаешь. Наверное, живет и остается именно та разница, которую так удачно выразили ангелы у Луки: «Мир на земле людям доброй воли (bonae voluntatis)». Ошибка перевода [ 40 ] В человецех благоволение.
и штамп, возникший в XX веке и расцветший у нас, почти запрещают приводить такой пример, но что поделаешь? Или у человека воля обращена к добру, или нет. Если обращена, то даже доброта у него другая, не насильственная. Он действительно хочет каждому того же, что себе.
P. S. Наученная опытом, повторю: Джеймс Биллингтон о таком законе и не слышал. Просто мы для краткости, по смежности, придумали это название и пользуемся им до сих пор. Друга, с которым мы были на докладе, нет на земле больше трех лет, но название подхватили еще несколько человек. Надеюсь, Биллингтон не обиделся бы. Судя по взгляду и улыбке, он бы понял, а может – и посмеялся.
Кату!
Когда мой старший внук был маленьким, он часто кричал такое слово, потому что еще не мог выговорить «хочу». Сейчас он его не кричит, и на том – большое спасибо. Он вообще человек хороший, что всегда -чудо; трудно ведь избавиться от детского потребительства.
Когда-то считалось, что этому надо помогать. Я говорю не о борьбе двух себялюбии, детского и материнского, а об осознанной и максимально мирной работе. И моя строгая бабушка, и моя кроткая нянечка делали ее постоянно. Без крика, няня -даже без недовольства, как-то подсказывали своим воспитанницам (когда-то – маме, тете, их кузинам, потом – мне), что твое желание – не закон. Просто вообразить не могу испуганной заботы: «А ты это ешь?» О том, чтобы кто-то из нас разгулялся, мешая за едой взрослым, не могло быть и речи.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: