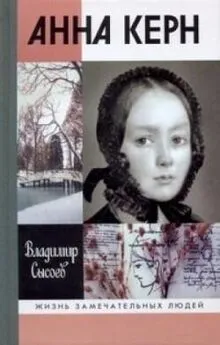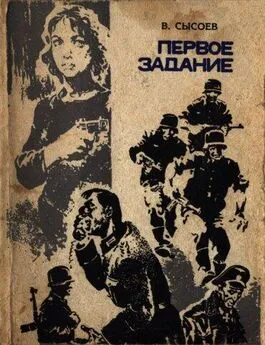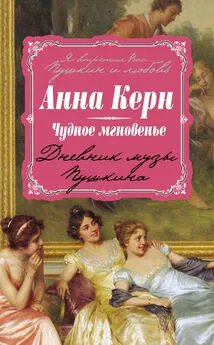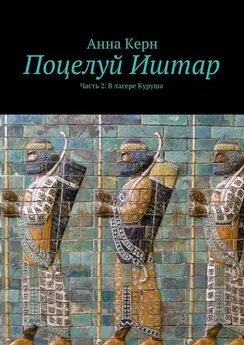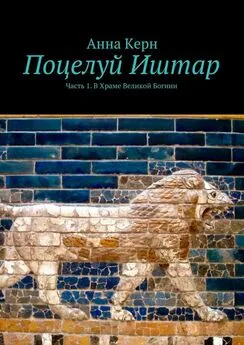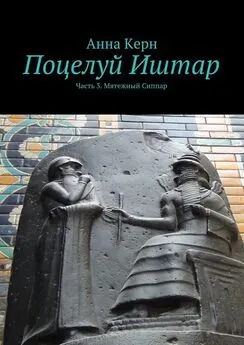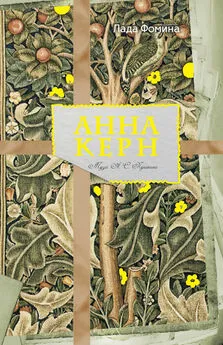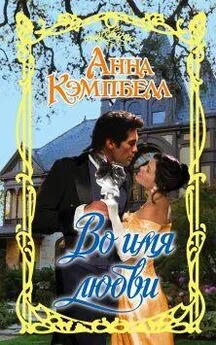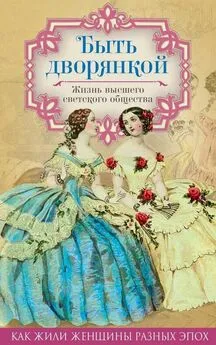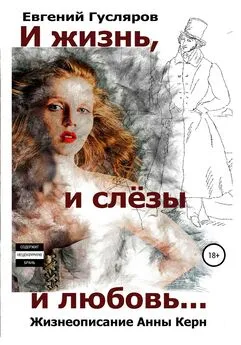Владимир Сысоев - Анна Керн: Жизнь во имя любви
- Название:Анна Керн: Жизнь во имя любви
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Молодая Гвардия»6c45e1ee-f18d-102b-9810-fbae753fdc93
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978–5–235–03153–1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Сысоев - Анна Керн: Жизнь во имя любви краткое содержание
Пушкин называл Анну Петровну Керн «гением чистой красоты» и «вавилонской блудницей». Её обаяние, ум и душевные качества нашли многочисленных почитателей, от великого поэта до императора Александра I. Первый раз она вышла замуж в 17 лет по воле отца за 52–летнего генерала; второй супруг был моложе её на 20 лет и являлся её близким родственником – даже в наше время такой союз сочли бы экстравагантным. Ей пришлось пройти через унижения, осуждение родных и нищету. На основании воспоминаний, переписки и других документов, часть из которых используется впервые, автор повествует о судьбе героини, развеивает мифы, сложившиеся вокруг её имени, и высказывает интересные предположения о некоторых эпизодах жизни этой незаурядной женщины.
Анна Керн: Жизнь во имя любви - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
ПОРТРЕТ {59} 59 Стихотворение А. И. Подолинского «Портрет», записанное в 1828 году в альбом А. П. Керн и посвященное ей, было в 1829 году опубликовано в альманахе «Подснежник».
Когда стройна и светлоока
Передо мной стоит она,
Я мыслю: Гурия Пророка {60} 60 Гурии Пророка – по Корану – вечно юные красавицы в мусульманском раю.
С небес на землю сведена.
Коса и кудри тёмно–русы.
Наряд небрежный и простой,
И на груди роскошной бусы
Роскошно зыблются порой.
Весны и лета сочетанье
В живом огне её очей
Рождают негу и желанье
В груди тоскующей моей.
И окончание стихов под заглавием: К ней.
Так ночью летнею младенца,
Земли роскошной поселенца,
Звезда манит издалека,
Но он к ней тянется напрасно…
Звезды златой, звезды прекрасной,
Не досягнёт его рука».
А. И. Подолинский писал в воспоминаниях «По поводу статьи г. В. Б. „Моё знакомство с Воейковым в 1830 году“»: «У Дельвига… Пушкин стал, шутя, сочинять пародию на моё стихотворение:
Когда стройна и светлоока
Передо мной стоит она,
Я мыслю: Гурия Пророка
С небес на землю сведена… – и пр.
Последние два стиха он заменил так:
Я мыслю: в день Ильи Пророка
Она была разведена…
Не лишнее, однако же, заметить, – продолжал Подолинский, – что к этой, будто б в день Ильи разведённой, написаны и самим Пушкиным стихотворения:
Я помню чудное мгновенье…
И другое:
Я ехал к вам, живые сны…
Вдохновительница этих стихов показывала мне последнее стихотворение в подлиннике, не знаю почему, изорванном в клочки, на которых, однако ж, можно было рассмотреть, что эти три, по–видимому, так легко вылившиеся строфы стоили Пушкину немалого труда. В них было такое множество переделок, помарок, как ни в одной из случившихся мне видеть рукописей поэта» [42].
Продолжим цитировать воспоминания Анны Петровны.
«Пушкин в эту зиму бывал часто мрачным, рассеянным и апатичным. В минуты рассеянности он напевал какой–нибудь стих и раз был очень забавен, когда повторял беспрестанно стих барона Розена:
Неумолимая, ты не хотела жить, —
передразнивая его и голос и выговор…
Он раз пришёл ко мне (во второй половине января – начале февраля 1829 года. – В. С.) и, застав меня за письмом к меньшей сестре моей в Малороссию, приписал в нём:
Когда помилует нас Бог,
Когда не буду я повешен,
То буду я у ваших ног
В тени украинских черешен {61} 61 В это время Пушкин обдумывал возможность поездки в Полтаву с целью навестить опального друга, соперничавшего с ним за благосклонность Е. К. Воронцовой, А. Н. Раевского. Младшая сестра Керн Елизавета жила в это время в Лубнах под Полтавой. Возможно, Пушкин, несмотря на высочайший запрет, и заезжал в Полтаву, однако свидетельств этому нет, а есть только косвенные намёки.
.
В этот самый день я восхищалась чтением его «Цыган» в Тригорском и сказала: «Вам бы следовало, однако ж, подарить мне экземпляр 'Цыган' в воспоминание того, что вы их мне читали». Он прислал их в тот же день с надписью на обёртке всеми буквами: «Её Превосходительству А. П. Керн от господина Пушкина, усердного её почитателя. Трактир Демут № 10».
Несколько дней спустя он приехал ко мне вечером и, усевшись на маленькой скамеечке (которая хранится у меня как святыня), написал на какой–то записке:
Я ехал к вам. Живые сны
За мной вились толпой игривой,
И месяц с правой стороны
Осеребрял мой бег ретивый.
Я ехал прочь. Иные сны…
Душе влюблённой грустно было,
И месяц с левой стороны
Сопровождал меня уныло!
Мечтанью вечному в тиши
Так предаёмся мы, поэты.
Так суеверные приметы
Согласны с чувствами души.
Писавши эти строки и напевая их своим звучным голосом, он при стихе:
И месяц с левой стороны
Сопровождал меня уныло! —
заметил, смеясь: Разумеется, с левой, потому что ехал назад/ Это посещение, как и многие другие, полно было шуток и поэтических разговоров.
В это время он очень усердно ухаживал за одной особой, к которой были написаны стихи: «Город пышный, город бедный… " и «Пред ней, задумавшись, стою… " (А. А. Олениной. – В. С.). Несмотря, однако ж, на чувство, которое проглядывает в этих прелестных стихах, он никогда не говорил об ней с нежностию и однажды, рассуждая о маленьких ножках, сказал: «Вот, например, у ней вот какие маленькие ножки, да черт ли в них?» В другой раз, разговаривая со мною, он сказал: «Сегодня Крылов просил, чтобы я написал что–нибудь в её альбом». – «А вы что сказали?» – спросила я. «А я сказал: Ого!» В таком роде он часто выражался о предмете своих воздыханий…
Зима прошла. Пушкин уехал в Москву (в начале марта 1829 года. – В. С.) и, хотя после женитьбы и возвратился в Петербург, но я не более пяти раз с ним встречалась».
Вот так, довольно коротко и, разумеется, деликатно (поскольку это касалось собственной репутации), Анна Петровна рассказала и о своей жизни, и о дружбе с Пушкиным и другими замечательными современниками в период с 1827 по 1829 год.
Имя ещё одного поклонника нашей героини назвал Алексей Вульф в дневниковой записи от 16 января 1829 года: «…у Анны Петровны я встретился с генерал–майором Свечиным, моим земляком по Тверской губернии, знавшим коротко моего отца, и мне сватом по сестре его [Вере Александровне], которая была за моим дядей [Фёдором Ивановичем Вульфом], а ко всему этому вдобавок, несмотря на 50 лет и 10 человек детей, волочившимся за Анной Петровной». В комментариях к дневнику Вульфа говорится, что имеется в виду Пётр Александрович Свечин. Но он к этому времени состоял только в чине полковника и, самое главное, был холостым и бездетным. Единственным из Свечи–ных, кто подходит под описание Вульфа, является генерал–майор Алексей Александрович Свечин {62} (1781—1835): ему в начале 1829 года шёл 48–й год, он был женат на Федосье Петровне, урождённой Корицкой, и имел, по крайней мере, пятерых детей. И ещё одна немаловажная деталь: заочным восприемником при крещении его старшего сына Александра согласился стать император Александр Павлович, а во время самого таинства монаршее место занимал дивизионный генерал Ермолай Фёдорович Керн, муж Анны Петровны.
Уже после описываемой Алексеем Вульфом встречи, 8 декабря 1832 года А. А. Свечин был произведён в генерал–лейтенанты, а 7 февраля 1834 года назначен начальником 4–й дивизии. Хотя позднее в мемуарах Анна Петровна неблагосклонно отзывалась о военных, справедливости ради надо сказать, что Алексей Александрович мало походил на грибо–едовского полковника Скалозуба: он был прекрасно образованным человеком, владел тремя иностранными языками [43].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: