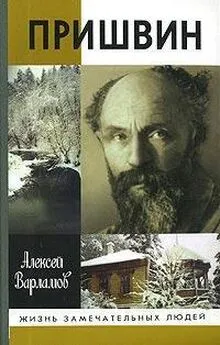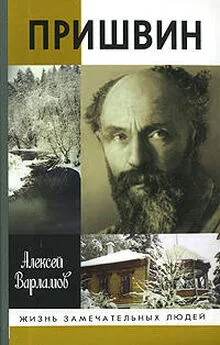Алексей Варламов - Пришвин
- Название:Пришвин
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Молодая Гвардия»6c45e1ee-f18d-102b-9810-fbae753fdc93
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:5-235-02548-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Варламов - Пришвин краткое содержание
Жизнь Михаила Пришвина (1873–1954), нерадивого и дерзкого ученика, изгнанного из елецкой гимназии по докладу его учителя В. В. Розанова, неуверенного в себе юноши, марксиста, угодившего в тюрьму за революционные взгляды, студента Лейпцигского университета, писателя-натуралиста и исследователя сектантства, заслужившего снисходительное внимание 3. Н. Гиппиус, Д. С. Мережковского и А. А. Блока, деревенского жителя, сказавшего немало горьких слов о русской деревне и мужиках, наконец, обласканного властями орденоносца, столь же интересна и многокрасочна, сколь глубоки и многозначны его мысли о ней. Писатель посвятил свою жизнь поискам счастья, он и книги свои писал о счастье – и жизнь его не обманула.
Это первая подробная биография Пришвина, написанная писателем и литературоведом Алексеем Варламовым. Автор показывает своего героя во всей сложности его характера и судьбы, снимая хрестоматийный глянец с удивительной жизни одного из крупнейших русских мыслителей XX века.
Пришвин - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
и т. п. для меня есть такая же борьба за родину, как и для вас, военного, борьба за ту же родину на фронте… Я очень боюсь, что литераторы… умышленно не хотят понимать, что за моими цветочками и зверушками очень прозрачно виден человек нашей родины, что борьбу с ними мне еще предстоит вести упорную… Я это подозревал еще во время диктатуры РАППа, когда вы мне начали оказывать дружескую поддержку и когда я, именно обороняясь, написал «Женьшень». И вот почему нынешня Ваша недооценка моей «Фацелии» и «Лесной капели» не могут ни в коем случае отнять уважение к Вам, доказавшему не словом, а физической кровью своей любовь к родине…»
Однако Валерии Дмитриевне прощал все: «У Л. нет малейшего интереса к жизненной игре. Пробовал совершенствовать ее в писании дневника – не принимает; фотографировать – нет; ездить на велосипеде научилась, но бесстрастно; автомобиль ненавидит; сидит над рукописями только ради меня; политикой вовсе не интересуется. Единственный талант у нее – это любовь». [1077]Но заключил свою книгу об этой любви такими словами: «Наша встреча была Страшным Судом ее личности». В известном смысле и его тоже…
А мир между тем все больше и больше охватывала война, которую Пришвин, подобно революции, был склонен рассматривать в качестве Страшного суда над народами. «Первое было, это пришло ясное сознание войны как суда народа», – записал он 22 июня 1941 года, а позднее добавил: «Дни Суда всего нашего народа, нашего Достоевского, Толстого, Гоголя, Петра Первого и всех нас».
Глава XXVIII
ВОЙНА
Диву даешься, сколько может вместить в себя одна человеческая судьба! Однако боюсь, как бы не устал, не заскучал читатель, разбираясь в хитросплетениях жизни человека, который сам называл себя не то простаком, не то хитрецом, играющим в простоту. Война обессмыслила эти игры и прояснила новый пришвинский лик, разбив все его былые представления о «великой шахматной доске», на которой расположились фигуры различных государств.
Она застала Пришвиных под Старой Рузой, где, недалеко от полюбившейся им Малеевки, супруги купили домик. Однако пожить в этом доме им суждено не было: война уничтожила его. Фадеев, к которому пришел Пришвин на прием ровно месяц спустя после начала войны, предлагал писателю уехать в эвакуацию в Нальчик вместе с заслуженными пожилыми людьми (Нестеровым, Москвиным, Качаловым), но Михаил Михайлович проявил неизменно-независимый характер и вместе с Валерией Дмитриевной отправился в свое возлюбленное Берендеево царство под Переславль-Залесский: сначала в деревню Заозерье, но та оказалась слишком далеко расположенной от магистральной дороги, и Пришвин, которого еще в 30-е годы стало общим местом упрекать в равнодушии к общественным делам, перебрался в менее живописную, изуродованную советскими временами деревню Усолье, которая когда-то была очень красива, а теперь в ней «был отвратительный хаос: люди вырубили прекрасный лес у реки, и лесная речка, такая раньше грациозная в своих излучинах, стала распутной и наглой».
«Мы поселились в деревне Усолье, расположенной в двадцати километрах от этой дороги и соединенной с нею ухабистым и вязким проселком, – вспоминала позднее Валерия Дмитриевна. – Здесь Михаил Михайлович не раз уже живал и в 20-х и в 30-х годах. Здесь он охотился, здесь боролся с помощью газетных корреспонденций за охрану уничтожаемого торфоразработками леса. „Я приехал в Усолье, где написанное мною в газетах в защиту леса люди еще помнят“, – отмечает он в Дневнике.
Эта разнообразная, дикая природа и было то Берендеево царство, созданное «среди болот и простого народа» и описанное им в первой его после революции новой книге «Родники Берендея».
«Мы устроились на окраине села в небольшом бревенчатом частном доме, сняв половину с двумя комнатами. Их объединяла старинная голландская печь, в которой я готовила еду и даже ухитрялась печь хлеб. За домом сразу же начинался огромный хвойный лес с болотами и сосновыми сухими гривами, лес грибной, ягодный, богатый зверем и птицей. С другой стороны протекала неширокая тинистая и рыбная речка Векса. За рекой разросся рабочий поселок торфопредприятия, описанный некогда Пришвиным, контора и жилые бараки. Там шли разработки громадных торфяных залежей. Торфопредприятие так и называлось в народе „болото“, разумелось под этим словом и все население, в основном „сезонное“, часто сменявшееся, не получившее еще оседлости, легко нашедшее себе здесь временный заработок и кров».
Это место имело для Пришвина очень важное значение. Может быть, не менее важное, чем Край непуганых птиц в прошлом или деревня Дунино в будущем.
«Берендеево царство – это реальный мир человека, весь мир, вся вселенная, как мы с тобой. Это мир людей равных, который носит в себе, в своей сокровенности каждый мобилизованный воин, несмотря на то, что он убивает другого. Это мир бедного Евгения, который бросил Медному всаднику сокровенное „мы“… Это мир поэзии, ожидающей себе защиты и оправдания временем».
Выше я уже говорил о том, что в сороковом году Пришвин в известном смысле изменил не столько бывшей жене и их общему трудному прошлому, тут-то измены никакой не было и не могло быть, ибо очень давно не было и любви, но именно этому волшебному и реальному Берендееву царству с его суровыми житейскими заповедями. Вот почему, привезя в эти края Валерию Дмитриевну, писатель совершал важное символическое действие. То было, пользуясь пришвинскими же словами, возвращение блудного сына к Дому, к одному из важнейших истоков и топонимов его творчества. В Усолье судьба писателя развивалась именно по тому сценарию, который предполагала его жена: они должны были жизнью оправдать любовь, и не случайно Пришвин назвал Усолье «пустыней», подразумевая под этим «жизнь личности в противоположность жизни светской».
«И теперь после новой исторической катастрофы, через двадцать лет я пришел сюда с твердой решимостью в третий раз в жизни начать что-то новое», – признавал писатель и, судя и по Дневнику, и по собственно художественной прозе, попытка эта оказалась более чем удавшейся.
«Мало-помалу пришел в себя и понял, как неразумно я вел себя в Москве, впитывая злобу времени. Пора с этой ориентировкой в политике совершенно покончить. Существует целый великий мир независимых ценностей, которые мой долг открывать людям всеми доступными мне средствами. Не нужно для этого куда-то ездить, надо их принимать к сердцу, жить ими и действовать. Надо расстаться с червивой средой и дальше расти. Пусть зима скоро наступит, около зимы, как теперь глубокой осенью, бывает чистое время».
Собственно, этим чистым временем оказалась для Пришвина вся война или, по меньшей мере, усольская ссылка. Именно там, в Усолье, Пришвин написал о Валерии Дмитриевне и своей к ней любви строки, которые стоили, пожалуй, всей любовной повести «Мы с тобой» и которые вообще доказывают невероятную глубину в постижении Пришвиным сущностей и умение эту глубину удивительно поэтически передать.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: