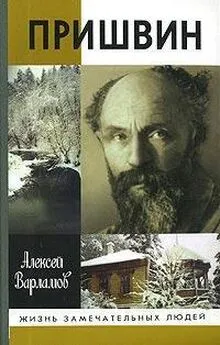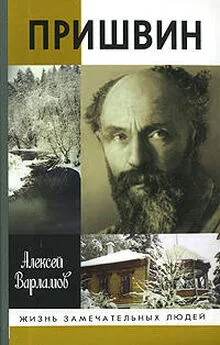Алексей Варламов - Пришвин
- Название:Пришвин
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Молодая Гвардия»6c45e1ee-f18d-102b-9810-fbae753fdc93
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:5-235-02548-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Варламов - Пришвин краткое содержание
Жизнь Михаила Пришвина (1873–1954), нерадивого и дерзкого ученика, изгнанного из елецкой гимназии по докладу его учителя В. В. Розанова, неуверенного в себе юноши, марксиста, угодившего в тюрьму за революционные взгляды, студента Лейпцигского университета, писателя-натуралиста и исследователя сектантства, заслужившего снисходительное внимание 3. Н. Гиппиус, Д. С. Мережковского и А. А. Блока, деревенского жителя, сказавшего немало горьких слов о русской деревне и мужиках, наконец, обласканного властями орденоносца, столь же интересна и многокрасочна, сколь глубоки и многозначны его мысли о ней. Писатель посвятил свою жизнь поискам счастья, он и книги свои писал о счастье – и жизнь его не обманула.
Это первая подробная биография Пришвина, написанная писателем и литературоведом Алексеем Варламовым. Автор показывает своего героя во всей сложности его характера и судьбы, снимая хрестоматийный глянец с удивительной жизни одного из крупнейших русских мыслителей XX века.
Пришвин - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Эта запись и словечко «засмысливается» заставляют не только в очередной раз вспомнить Зинаиду Гиппиус или Александра Блока, но и другого героя тех лет – Павла Михайловича Легкобытова с его брошенным Мережковскому и его богоискательству «шалуны». В замысле Пришвина тоже была некая «шалость»…
И все же Пришвин сделал одну вещь очень важную, хотя и сам понимал всю ее невозможность в смысле публикации – изменил эпиграф и тем самым отчасти сдвинул коммунистическую (легкомысленную, если угодно) концепцию романа: «Аще сниду во ад, и Ты тамо еси» («Этот эпиграф не будет опубликован, но пусть будет как веха в душе»).
Однако властям и без этого, отсутствовавшего и подразумеваемого эпиграфа, взятого писателем из 138-го псалма царя Давида, мало не показалось, и судьбу неопубликованного эпиграфа разделил весь роман. Правители наши вообще предпочитали о Беломорканале не вспоминать, времена перековок давно миновали и факт использования в СССР принудительного труда более не афишировался, ибо бросал тень на светлое здание коммунистического будущего, и оттого можно только гадать, какая наступила на улице Правды растерянность, если не паника, куда бежать, в КГБ или ЦК, размышляли сотрудники редакции, когда осенью 1948 года писатель отвез в «Октябрь» свое новое произведение, идея которого «зрела 65 лет», то есть со дня бегства в «Азию».
Главный редактор журнала Панферов, который, как мы помним, в конце 30-х дружески советовал Пришвину не стоять в стороне и говорил: «Мы, конечно, и в подметки не годимся вам, Михаил Михайлович, в отношении культурности, и вы писатель настоящий, но позвольте сказать вам правду: вы держитесь в стороне», долго автору не звонил, а потом через сотрудника редакции Ильенкова передал требование «уничтожить труд заключенных» и пожелал, чтобы «может быть, даже, что события были именно не на Беломорском канале», [1087]что и было в дальнейшем подтверждено во время обсуждения романа накануне нового, 1949 года в редакции и обессмысливало всю громадную работу, проделанную неудобным писателем.
«Ильенков объявил, что „Канал“ нецензурен, нельзя писать о канале: он скомпрометирован. Необходимо выдернуть всю географо-историческую часть и навертеть все на другое. Это был такой удар по голове, что я заболел».
Там, наверху, хотели переписать историю, забыть которую Пришвин был не в силах и которую пытался оправдать, найти разрешение и выход. Все это понимал и сам писатель («Допускаю, что нынешние правящие коммунисты могут быть смущены моим романом и спросить: как же это так вышло, что принудительный труд, укрываемое и переживаемое преступление, может стать предметом восхищения поэта и…»), соглашался заменить мотив принуждения вербовкой («Остается надежда на то, что мысль о трудовом воспитании заполнит пустоты и оправдает произведение. А великолепное мастерство даст легкость чтению»), но все равно это было никому не нужно, и так получилось, что не в охотничьих и не в детских рассказах, а в самом что ни на есть злободневном романе с общественным пафосом, к чему призывала его когда-то настырная рапповская критика, разошлись старейший писатель, мечтавший послужить своему народу, государству, настоящему социализму и будущему коммунизму, и само государство в лице его литературных чиновников, и Пришвин печально заключил: «Если это так, то мне надо бы покупать корову и убираться с литературного поприща», а еще через год, осенью 1949 года, уточнил: «…Подумываю, не удрать ли вовсе из литературы. Можно бы дачу продать… устроиться в маленькой избушке: корова, поросенок, куры… Да так бы и жить потихоньку? Так мы с Л., верно, и сделаем».
Последнее было уже не первой и довольно бессмысленной угрозой. Сколько Пришвина ни били за всю его долгую литературную жизнь, он всякий раз поднимался как ванька-встанька и продолжал свой труд. Вот и на этот раз, перечтя ночью, после разгрома своего романа «Даму с собачкой», заключил, что и его «"Царь природы" – настоящая вещь».
«Еще я увидел, что не только на безрыбье теперь я – писатель, но что и среди рыб я рыба», и нет в этом ни самонадеянности, ни нескромности – Пришвин этой уверенностью в принадлежности своей к литературе, к подлинному писательскому братству держался и спасался, а «быть настоящим писателем – это значит непременно быть одиноким», – заключил он бессонной предновогодней ночью.
Наступил 1949 год, и Пришвин принялся переделывать роман по указанию редакции «Октября», кромсая его «как пиджак на очень капризного заказчика». Действие было перенесено на новую стройку, без участия заключенных и надсмотрщиков, роман получил название «Новый свет», но на пути у него восстал Панферов, и Пришвина это «срезало до чувства смертной тоски (знакомое редкое и страшное чувство)».
Федор Иванович, по видимости, стоял, как танк, зная, что вещь непроходима, и может быть, из одного тонкого партийного иезуитства не сообщал этого Пришвину прямо, а мучил старого писателя хуже, чем злой мальчишка, и вот уже Пришвину начинало казаться, что он недостаточно прославил карательные органы: «До сих пор „Дорога“ не выходила у меня потому, что я не мог себе представить чекиста, как мне надо, хорошим человеком. Когда же я встретил О. и понял этого коммуниста как человека в процессе современности с устремлением к лучшему – этот герой был найден (…) от меня потребовалось то, что я искал в чекисте: „исповедую“».
Но даже этот таинственный О. не помог, и в конце концов дело заглохло окончательно, впустую прошел «целый год сплошной пытки автору, задавшемуся искренно целью прославить коллектив!» – и единственное, что радовало в этой ситуации Пришвина: он не взял аванса и, следовательно, никаких обязательств перед редакцией не имел.
«Причесывание произведений литературных вошло в повадку, и каждая редакция стала похожа на парикмахерскую», – заключил он со вздохом в «Глазах земли».
Это может показаться поразительным, но в поздний период жизни, когда Пришвин «всем сердцем, всем телом и всем сознанием» находился ближе чем когда бы то ни было к власти и подобно герою «Корабельной чащи» Мануйле был готов все простить и вступить в большой советский колхоз, издательская судьба его произведений складывалась особенно тяжело. И дело здесь касалось не только «Осударевой дороги». В послевоенные годы Пришвин, как и официальная советская идеология, проповедовал грядущий коммунизм – любовь к которому, как уже говорилось, особенно усилилась в нем после победы над Германией. Только любовь эта и понимание коммунизма были у писателя и центрального комитета партии слишком различными. Всякие попытки монополизации светлого будущего вызывали у власти жгучее чувство соперничества.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: