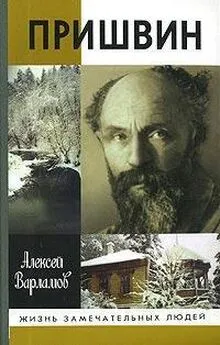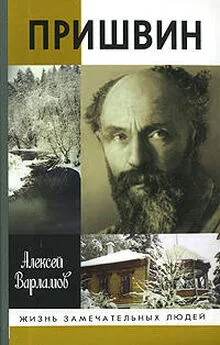Алексей Варламов - Пришвин
- Название:Пришвин
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Молодая Гвардия»6c45e1ee-f18d-102b-9810-fbae753fdc93
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:5-235-02548-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Варламов - Пришвин краткое содержание
Жизнь Михаила Пришвина (1873–1954), нерадивого и дерзкого ученика, изгнанного из елецкой гимназии по докладу его учителя В. В. Розанова, неуверенного в себе юноши, марксиста, угодившего в тюрьму за революционные взгляды, студента Лейпцигского университета, писателя-натуралиста и исследователя сектантства, заслужившего снисходительное внимание 3. Н. Гиппиус, Д. С. Мережковского и А. А. Блока, деревенского жителя, сказавшего немало горьких слов о русской деревне и мужиках, наконец, обласканного властями орденоносца, столь же интересна и многокрасочна, сколь глубоки и многозначны его мысли о ней. Писатель посвятил свою жизнь поискам счастья, он и книги свои писал о счастье – и жизнь его не обманула.
Это первая подробная биография Пришвина, написанная писателем и литературоведом Алексеем Варламовым. Автор показывает своего героя во всей сложности его характера и судьбы, снимая хрестоматийный глянец с удивительной жизни одного из крупнейших русских мыслителей XX века.
Пришвин - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Троцкий дал ответ (по телефону Воронскому, и тот передал Пришвину): «Признаю за вещью крупные художественные достоинства, но с политической точки зрения она сплошь контрреволюционна». [653]
Пильняк посоветовал Пришвину не расстраиваться: «Нечего ждать от Троцкого чего-нибудь, он ограниченный человек, спец в своем деле, но в литературе неумный». [654]
«Вот и паспорт мне дали», – философически заключил Михаил Михайлович, который в эти же самые дни прочел в «Известиях» статью некоего писателя Устинова о том, что «беленький Пришвин» получает паек, а пролетарским писателям не достается. Но Троцкому обиды не забыл и, когда для Льва Давидовича настали черные дни, взял сторону его политического противника, а по Троцкому проехался в охотничьих рассказах, из коих советскому читателю был хорошо известен отредактированный, но все равно весьма двусмысленный «Ленин на охоте», а вот рассказ о Троцком за этим же занятием – покуда в архиве и ждет своего часа.
И все же неудача не свалила закаленного и не такими бедами алексинского гостя с ног, а лишь внесла в его положение мобилизующую силу духа ясность. «Я понял, что я в России при моем ограниченном круге наблюдений никогда не напишу легальной вещи». [655]
Легальных вещей после этого Пришвин написал сколько угодно – но вот к опасной и скользкой теме революции и Гражданской войны, к тому, что было так остро им пережито и глубоко осмыслено, не возвращался более никогда, не считая маленьких рассказов, вроде «Школьной робинзонады» или очень хорошо продуманного, политически корректного, как мы бы сегодня сказали, рассказа «Охота за счастьем». А когда в 1929 году, после окончания «алпатовской трилогии» мелькнула у него было идея написать «эпопею гибели купеческого города Ельца в 1919 году», замысел реализован не был, и именно за отсутствие революционной темы его и била впоследствии провокаторская рапповская критика: «Такие явления, как война и революция, прошли, в сущности, мимо Пришвина, задев его творчество лишь стороной». [656]
Тем не менее обиды на власть у Пришвина не было, – напротив, если умозрительное из смоленского далека отношение к московскому нэпу, – о котором позднее мудрый Пастернак написал в «Докторе Живаго», что то был самый фальшивый из всех советских периодов, – оставалось у Пришвина отрицательным, и это еще один вклад в его «лениниану» («Читал фельетон Ленина о новой экономической политике – длинная, бесконечная речь! Читаешь, будто едешь по этой мерзлой, колючей земле на серой кляче в телеге, и, кажется, конца нет, пока вытянет кляча и доедешь до города, – так бездарен его стиль, так убога, низменна эта мещанская мысль, видящая избавление человечества в зависимости только от материальных (внешних) отношений» [657]), то увиденная в Москве реальность оказалась иной и необыкновенно взбодрила его.
«Я собрался духом и поехал в Москву: какую тут животную радость я испытал, увидав открытые продовольственные магазины, книжные лавки, издательство», [658]– сообщил он Ремизову.
В этом же письме к Алексею Михайловичу (зная из писем Иванова-Разумника, что тот сильно тоскует за границей) Пришвин не без умысла написал: «Я себя чувствую, наверно, много лучше, чем Вы: леса наши мало-помалу очищаются от лома, в сгоревших местах примется буйная заросль, по сторонам дорог открываются капризные тропинки, по которым совершенно безопасно можно идти… Самое же главное, я не стыжусь Вам в этом сознаться после испытаний голода и чуждого мне рода труда: так называемая „животная“ радость бытия вытесняет всякую грусть. Поешь хорошо, удастся напечатать, хотя и с большими опечатками, книгу, и радуешься и думаешь: „заслужил, заслужил!“, а раньше, бывало, наешься, выпустишь книгу и загрустишь» [659]. [660]
Посетив Москву в 1922 году, он поверил в «буйное возрождение страны», о чем и написал куму Ященке: «Се буди, буди!» Сегодня, с высоты или из глубины прожитых нами в двадцатом веке лет легко его за этот оптимизм осудить, но с человеческой, обывательской, точки зрения – а Пришвину она отнюдь не была чужда, что он и сам признавал, – любой, переживший те годы, если только это был не твердолобый коммунист, тоскующий по расстрелам на месте и красному террору (а известно, что переход к нэпу привел к случаям самоубийства самых последовательных партийцев – вот уж воистину секта!) это подтвердил бы.
К тому же Пришвин, в отличие от многих противников большевистского режима, никогда не испытывал симпатии к старым временам и о прошлом, о «великой подлости русской жизни, заплеванной, загаженной, беззаконной», [661]жалел очень мало (о филипповских калачах, правда, весьма образно, жалел: «Ну что это за роскошь, бывало, утром к чаю принесут горячий калач, полный, и упругий и мягкий, как грудь нежнейшей, <1 нрзб.> молодой девушки» [662]). Новое для него было не разрывом, а продолжением старого, его следствием, усилением – особенно это проявилось в пришвинских взглядах на самое ненавистное ему детище революции – коммуну, которую разрушил нэп, Пришвиным отчасти предсказанный, хотя и не сразу узнанный в тусклых ленинских лозунгах и статьях.
Еще в 1921 году, во время своего смоленского сидения, окруженный «коммунарами», Пришвин писал с какой-то бунинской злобой: «Коммуна – это название скелета нашей покойной монархии, это кости государственной власти, по которым нельзя узнать лица; а кости государственной власти – ее принудительная сила, общеобязательная как смерть. И как смерть противоположна жизни, так и коммуна – свободе; захотели свободу, так вот же вам испытание: коммуна». [663]
Ему как белый день (так и хочется вспомнить Блока: «Лжет белый день» [664]) была ясна преемственность этой коммуны с дореволюционным обществом, ибо в ее состав входят «прежня служебная мелкота и, главным образом, прежня полиция, жандармерия, поповичи, недоучившиеся гимназисты (…) все „вторые скрипки“, описанные Чеховым». [665]
Коммуна – это «большой парадный чисто отполированный квадратный стол», на котором стоит бюст Маркса, а под столом «пьют самогон и поют Ваньку Ключника. (…) Им и самим бывает тошно от этой жизни, они сознают, что так всегда быть не может, и при первом тревожном известии из центра говорят о конце и даже обращаются к Библии, выискивая пророчества про Аваддоново царство. Когда бунт подавляется, все они опять думают, что ничего, поживут еще долго, делают двойные, тройные усилия для выполнения завета „кажон для себя“». [666]
Для Пришвина была очевидна неустойчивость подобного состояния, которое завершится либо «провалом коммунального стола», либо трудящийся человек, «неизвестно какою ценою», должен будет одолеть «бездельника».
Позднее подобную коммуну, под иным углом зрения, не язвительно, не зло, но бесконечно грустя и любя ее сынов, им сострадая и осознавая ее обреченность и нежизненность, опишет в «Чевенгуре» Андрей Платонов. Но то, что дано будет почувствовать воронежскому железнодорожнику, Пришвин не примет, однако все же предречет и воспоет исчезновение этого «общественного стола».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: