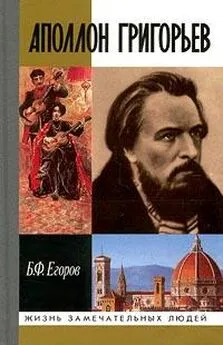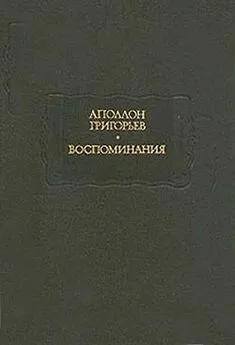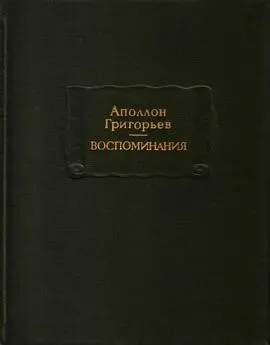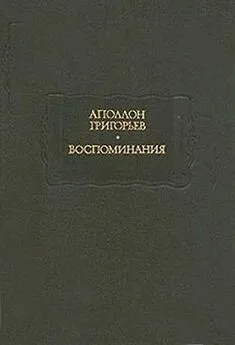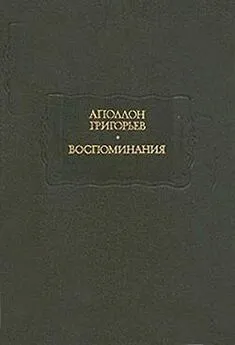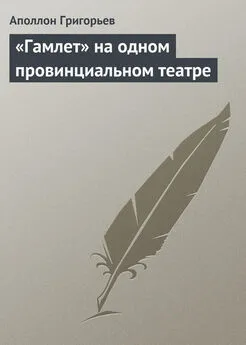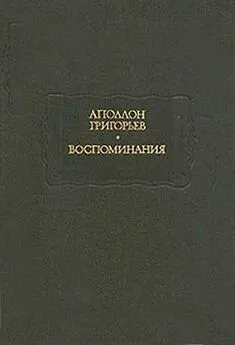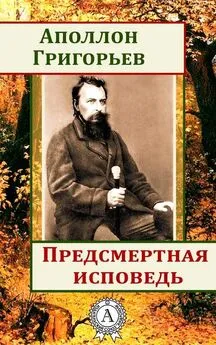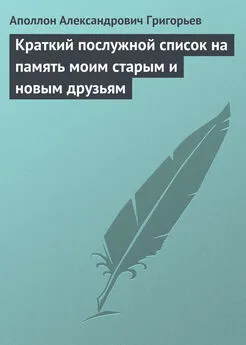Борис Егоров - Аполлон Григорьев
- Название:Аполлон Григорьев
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая Гвардия
- Год:2000
- Город:Москва
- ISBN:5-235-02323-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Егоров - Аполлон Григорьев краткое содержание
В книге известного литературоведа и историка Б.Ф.Егорова впервые для широкого читателя подробно и популярно раскрывается жизненный путь одного из сложнейших деятелей русской культуры Аполлона Александровича Григорьева (1822-1864), замечательного поэта, прозаика, литературного и театрального критика, публициста. Широко известный лишь своими `цыганскими` песнями (`О, говори хоть ты со мной...` и `Две гитары, зазвенев...`), он был еще выдающимся критиком середины XIX века (Тургенев сравнивал его с Белинским), автором интереснейших воспоминаний, талантливым очеркистом. Человек неуемных страстей, он не знал меры в любви, в дружбе, в алкоголе, часто впадал в идеологические крайности (был масоном, революционером, консерватором, славянофилом, `почвенником`), честно потом отказывался от `экстремизма`. По противоречиям жизни и творчества Григорьев может сравниться с Н.С.Лесковым и В.В.Розановым.
Аполлон Григорьев - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
А сближение Григорьева с Дружининым помогло ему тоже в смысле дальнейших публикаций. Дружинин с 1856 года возглавил известный толстый журнал «Библиотека для чтения», где через год напечатал григорьевский перевод комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь», а еще через год — давно полученную его статью «Критический взгляд на основы, значение и приемы современной критики искусства». Эта статья — итоговая, как бы программа эстетических воззрений автора на конце «москвитянинского» периода. Такими же итоговыми в социально-политической области были два письма Григорьева той поры, одно – ответ Кошелеву на приглашение в «Русскую беседу» (от 25 марта 1856 года), другое — к Погодину (весна 1857 года).
В интереснейшем письме к Кошелеву Григорьев, признавая общность главных принципов (православие и самобытность России), откровенно наложил свое представление о разногласиях между славянофилами и членами «молодой редакции» «Москвитянина»: «Главным образом, мы расходимся с вами во взгляде на искусство, которое для вас имеет значение только служебное, для нас совершенно самостоятельное, если хотите — даже высшее, чем наука (…). В отношении к взгляду на народность различия наши могут быть, как мне кажется, формулированы в двух следующих положениях: 1) Глубоко сочувствуя, как вы же, всему разноплеменному славянскому, мы убеждены только в особенном превосходстве начала великорусского перед прочими и, следственно, здесь более исключительны, чем вы, — исключительны даже до некоторой подозрительности, особенно в отношении к началам ляхитскому и хохлацкому. 2) Убежденные, как вы же, что залог будущего России хранится только в классах народа, сохранившего веру, нравы, язык отцов, — в классах, не тронутых фальшью цивилизации, мы не берем таковым исключительно одно крестьянство: в классе среднем, промышленном, купеческом по преимуществу, видим старую извечную Русь, с ее дурным и хорошим, с ее самобытностью и, пожалуй, с ее подражательностью…».
Замечательным расширительным комментарием к этому тексту служит и письмо Григорьева к Погодину: « Правда, которую я исповедаю (да, кажется, и Вы), твердо верит вместе с славянофилами, что спасение наше в хранении и разработке нашего народного , типического; но как скоро славянофилы видят народное начало только в одном крестьянстве (потому что оно у них связывается с старым боярством), совсем не признавая бытия чисто великорусской промышленной стороны России, – как скоро славянофильство подвергает народное обрезанию и холощению во имя узкого, условного, почти пуританского идеала — так славянофильство, во имя сознаваемой и исповедуемой мною правды, становится мне отчасти смешно, отчасти ненавистно как барство с одной стороны и пуританство с другой.
Правда, мною (да, кажется, и Вами) сознаваемая и исповедуемая, ненавидит вместе с западниками и сильнее их деспотизм и формализм государственный и общественный, – ненавидит западников за их затаенную мысль узаконить, возвести в идеал распутство, утонченный разврат, эмансипированный блуд и т. д. Кроме того, она не примирится в западничестве с отдаленнейшею его мыслию, с мыслию об уничтожении народностей, цветов и звуков жизни, с мыслию об отвлеченном, однообразном, форменном, мундирном человечестве. Разве социальная блуза лучше мундиров блаженной памяти и(мператора) Н(иколая) П(авловича) незабвенного, и фаланстера лучше его казарм? В сущности, это одно и то же.
Как с славянофильством, так и с западничеством расходится исповедуемая мною правда в том еще, что и славянофильство, и западничество суть продукты головные, рефлективные, а она (…) порождение жизни. Положим, что мы и точно порождение трактиров, погребков и б(орделей?), как звали Вы нас некогда в порыве кабинетного негодования — но из этих мест мы вышли с верою в жизнь, с чувством или лучше чутьем жизни, с неистощимою жаждою жизни. Мы не ученый кружок, как славянофильство и западничество: мы — народ».
В этих двух письмах сконцентрирована основная суть григорьевского социально-политического мировоззрения середины пятидесятых годов. Идеолог пытается заручиться солидарностью Погодина, но на самом-то деле не только шеф, но и друзья по «молодой редакции» отнюдь не во всем были согласны с Григорьевым.
Что, может быть, объединяло всех — это глубокая любовь к России, доходящая у Григорьева даже до национализма, когда он рассуждает о «превосходстве начала великорусского перед прочими». Тогда он вполне мог произнести фразу, которую вкладывает ему в уста Е.М. Феоктистов в воспоминаниях о той эпохе: «…славянофилам хотелось бы почистить и пригладить народ, а мы берем его, как он есть, для нас и жулик получше любого заморского чухонца». «Жулик» для Григорьева был своеобразным положительным противовесом мещанству и рационализму. В статье «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина» (1859) он говорит, что «для нас, русских» добрые люди сами по себе еще не образец: «Мы любим в них смышленость, здоровый ум, известный юмор — соединенные с добротою. Мы скорее за означенные качества легко перевариваем в человеке примесь маленькой грязцы, дряни, мошенничества, — нежели уважим тупоумие за одну доброту».
А высокомерие к другим народам, особенно — по отношению к украинцам и полякам, вскоре исчезнет у нашего мыслителя. В некрологе Т. Шевченко (1861) он даст такую характеристику покойному: «первый великий поэт новой великой литературы славянского мира». А в 1863 году, во время польского восстания, он напечатает статью «Вопрос о национальностях», где будет доказывать права каждой нации «на самобытность существования», на свой язык, свою культуру. Но это — несколько лет спустя.
Ратуя за сохранение национальных начал, Григорьев в то же время четко определяет, что именно народ содержит в себе основные черты и свойства национальной жизни, в противовес удалившимся от народа «барам», неважно — славянофилам или западникам. Народ же для мыслителя не крестьянство, а городская публика в виде промышленников и купцов. В других высказываниях содержится объяснение такой точки зрения: Григорьев считал крестьянство (как и барство!) опутанным крепостным рабством, поэтому утратившим социальную и нравственную свободу.
В приведенных цитатах Григорьев ни слова не сказал о духовенстве. Дело в том, что его отношение к этому сословию в ту пору было весьма сложным. В период «молодой редакции» он окончательно вернулся в лоно православия, преклоняясь перед многовековой народной традицией, утверждая, что православие истинно демократическая религия. Но он отделял традицию и народную веру от официальной церкви, считал, что петровские чиновничьи преобразования церкви приобщили ее к государственному бюрократизму. Отсюда его раздражение по поводу эволюции Т. Филиппова («до чего и сколь основательно развилась во мне вражда к официальному православию, в которое он ушел»), его чрезвычайно резкие суждения по поводу «богопротивных брошюрок Святейшего Синода, церкви, иже о Христе жандармствующих» (письмо к Погодину от 11 мая 1859 года). С другой стороны, Григорьев с величайшим уважением относился к нестандартным религиозным мыслителям вроде архимандрита Феодора (Бухарева), безуспешно пытавшегося засыпать пропасть между мирской жизнью и православной церковью (Феодор, видный профессор Московской духовной академии, за его внимание к «светской» литературе, журналистике, за дружбу с Гоголем подвергался немилости митрополита Филарета, цензурным запретам, ссылался — и в конце концов снял с себя монашеский и священнический сан).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: