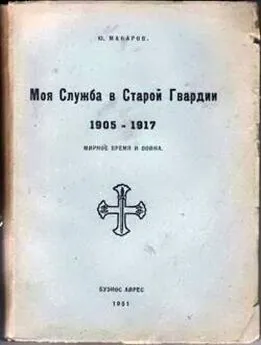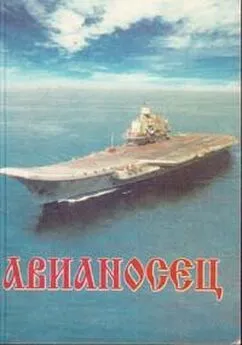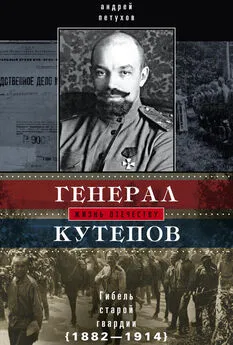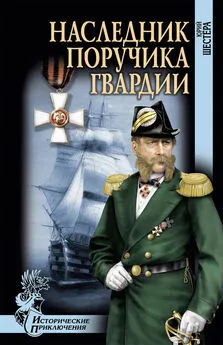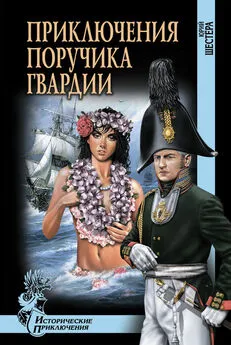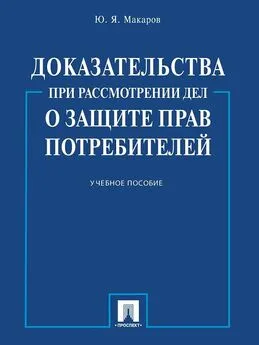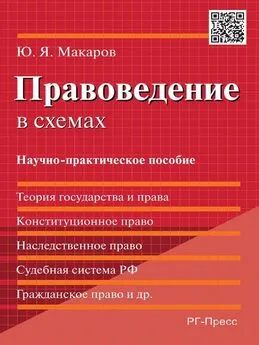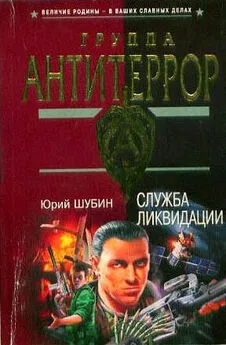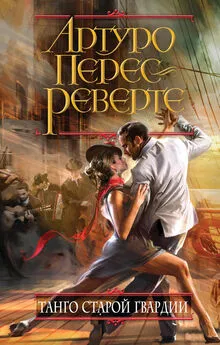Юрий Макаров - Моя служба в Старой Гвардии. 1905–1917
- Название:Моя служба в Старой Гвардии. 1905–1917
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Доррего
- Год:1951
- Город:Буэнос-Айрес
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Макаров - Моя служба в Старой Гвардии. 1905–1917 краткое содержание
Юрий Владимирович Макаров служил в лейб-гвардии Семеновском полку — одном из старейших воинских формирований русской армии, стяжавших славу на полях сражений. В своих мемуарах он обозначил важнейшие вехи в истории Семеновского полка в последний период его существования — с 1905 по 1917 год. Это объективный беспристрастный, но глубоко личностный рассказ о жизни и быте русского офицерства, прежде всего его элиты — гвардейцев, их традициях и обычаях, крепкой воинской дружбе и товариществе, верности присяге, нравственном кодексе офицерской чести. Автор создал колоритную панораму полковой жизни в мирное и военное время, яркую портретную галерею типичных представителей русского офицерства — от подпоручика до свитского генерала. Особенная историческая ценность работы состоит в уникальных сведениях, которые ныне малодоступны даже для историков. Подробно описана внутренняя жизнь городского и лагерного офицерского Собрания. Немало страниц посвящено культурной жизни Петербурга-Петрограда начала XX века.
Моя служба в Старой Гвардии. 1905–1917 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Официального разрешения, конечно, не было и полагалось, что в этом деле господа офицеры руководствуются гарнизонным уставом, где дежурным разрешалось ночью «отдыхать лежа», но все всегда знали, от вел. кн. Владимира Александровича и ниже, что в войсках Петербургского гарнизона дежурные по полкам офицеры ночью спят в простынях, под одеялами, раздеваясь до рубашки. И никто никогда против такого порядка вещей голоса не подымал.
Но вот однажды поздней осенью на дежурство по полку заступили капитан А. С. Пронин и помощником Алексей Рагозин. Пронин, между прочим прекрасный служака, — на войне отлично командовал армейским полком, — вечером удалился в лоно семьи, в офицерский флигель, а Рагозин, хорошо поужинав и выпив, и совершив ночной обход казарм, как полагалось, разделся и лег спать.
На следующее утро часов в 8, вестовой из передней будит его и докладывает:
— Ваше Высокоблагородие, в передней генерал пришли и Вас спрашивают.
— Проводи его в читальню и скажи, что я сейчас приду.
Через минуту тот же вестовой, но уже несколько встревоженный появляется снова и говорит, что генерал желает видеть дежурного офицера немедленно.
— Предложи ему кофею и скажи, что я сейчас выйду, — сквозь сон сказал Рагозин и не спеша стал подыматься с дивана.
Еще через минуту в комнату просовывается голова вестового, а за ним появляется генерал-лейтенант с георгиевской ленточкой в петлице пальто.
— Я генерал-инспектор пехоты. Вы дежурный офицер?
— Так точно, Ваше Превосходительство, — отвечает Рагозин, стоя смирно, но об одном сапоге.
— Как Ваша фамилия?
— Подпоручик Рагозин, В. П-во.
Генерал круто повернулся и вышел.
Через день Рагозин сел на 15 суток под арест, постельное белье в Собрании куда-то исчезло, на диванах появились кожаные подушки, вместо пуховых, а дежурные по полкам Петербургского гарнизона, стали по ночам «отдыхать лежа», как им и полагалось по уставу.
Командир корпуса Васильчиков ушел в 1906 году и на место его был назначен Данилов, «герой» японской войны, сразу же произведенный в генерал-лейтенанты и получивший генерал-адъютантские аксельбанты.
Он был коренной офицер л. — гв. Егерского полка и в молодости был известен приверженностью к Бахусу и неряшливостью в одежде. Говорили, впрочем, что на японской войне он, действительно, выказал если не воинские таланты, то большую личную храбрость.
Данилов был небольшого роста, довольно плотный, с длинными свисающими усами и седоватой бородкой клином, человек порядочно за 50. Общим видом весьма напоминал престарелого пехотного «капиташу» одного из российских полков с глухой стоянкой. Ходил в развалочку и явно играл под «мужичка-простачка». Офицеры его звали «Данилкой» и никакого почтения к нему не питали.
Визитами нас высокое начальство не баловало, придерживаясь Петербургских обычаев, где явиться в дом без приглашения, «на огонек», считалось неприличным. Большие генералы приезжали в поле исключительно на смотры, на смотр стрельбы, на инспекторский и т. п. Смотры, как общее правило, сходили отлично, после чего начальство приглашалось в Собрание, зимой к завтраку, летом в лагерях к обеду. Завтраки и обеды, которые и так были хороши, увеличивались еще на одно блюдо, ставилась богатейшая горячая закуска и выкатывалось море вина. Одним словом: «побольше провизии для начальника дивизии». Высоких гостей считалось обязательным хорошенько подпоить. На такое дело генерал-адъютанта Данилова упрашивать долго не приходилось и несмотря на то, что в то время командиром и его соседом по столу был Шильдер, который по хилости здоровья пил один нарзан, каждый раз, что «Данилка» у нас появлялся, он преисправно нализывался.
Помню одно из его выступлений в лагерях. Был, кажется, смотр стрельбы и выбили, как полагается, много «сверх-отличного». Причем без всяких жульств. Мы вообще всегда стреляли прекрасно, да и заведующий оружием, главное действующее лицо в такие дни, поручик Степан Гончаров (убит в октябре 14-го года под Ивангородом), фанатик стрелкового дела (он раз собственноручно пристрелял в тире винтовки всего полка) никогда бы до этого не унизился. «Данилка» был в восторге, благодарил чинов, офицеров и поминутно прикладывал пятерню, с простреленным и торчащим в бок пальцем, к козырьку своей генерал-адъютантской фуражки. В этот день почему-то из всех прилагательных к «Семеновскому полку» и к «Семеновцам» ему больше всего полюбилось слово «правильные», и так он нас потом всегда и звал: «правильные семеновцы».
После стрельбы повели его в Собрание и основательно накачали. Накачался он, впрочем, сам. За столом говорил речи длинные и путаные и сыпал «правильные» направо и налево. После обеда все офицеры ин корпоре проводили его на первую линейку, куда ему подали его беленького маштачка. Но это еще был не конец. Дежурный по полку сказал что-то и все дневальные под грибами заорали:
— Выходи все на переднюю линейку!
Люди выскочили из палаток, кто в чем был, в опорках, в подштанниках, босиком. Данилка опять сказал речь и опять были «правильные». Настроение создалось повышенное и чувствовалось, что все позволено. Кто-то из офицеров крикнул:
— Ура корпусному командиру, качать его!
Как все мальчишки, чины, любящие всякое бесчинство, заревели «ура!», подхватили Данилку и стали швырять его на воздух, не так, как почтительно качают начальство, а как это делается на деревенских свадьбах.
Наконец, несчастного Данилку освободили, водрузили на лошадку и под громовое «ура»! сильно кренясь с седла, он поскакал под гору, направлением на Красное Село.
Кроме смотров и парадов никакой военной деятельности Данилов у нас не проявлял. Единственным его нововведением был на церемониальном марше «скорый шаг», 120 шагов в минуту, т. наз. «стрелковый». Для маленьких стрелков, вроде итальянских «берсальери», это может быть было отлично, но когда наша большая тяжелая пехота, «гоплиты», начинали семенить, то это было и неудобно и некрасиво. Кажется в 1912 году Данилов ушел и в начале войны, уже в почтенном возрасте, ему дали что-то в командование, но насколько мы слышали действовал он не очень удачно, т. к. уже в 15 году был отчислен и назначен на архиерейское место «коменданта Петропавловской крепости». В наше время «архиерейским местом» называлось такое, на котором можно было спокойно сидеть и ничего не делать. Возможно, что теперь понятия переменились.
После «Данилки», командиром гвардейского корпуса был назначен генерал-адъютант Безобразов, коренной лейб-гусар и бывший командир Кавалергардского полка. Он и вывел корпус на войну.
Безобразов был человек придворный, совершенно не военный и как начальник типичнейший «добрый барин». Начальником Штаба он себе взял бывшего военного агента, не то в Париже, не то в Вене, богатейшего Екатеринославского помещика графа Ностица.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: