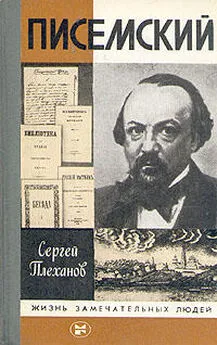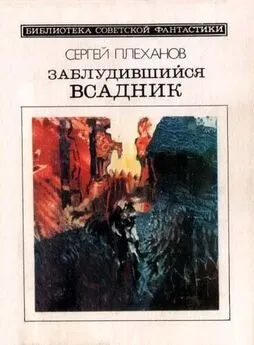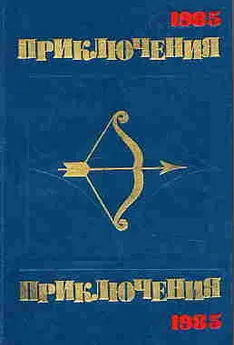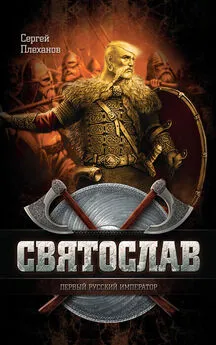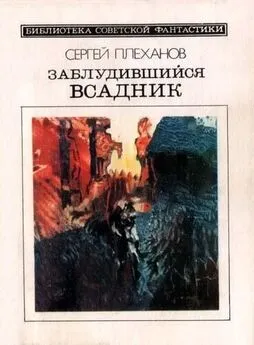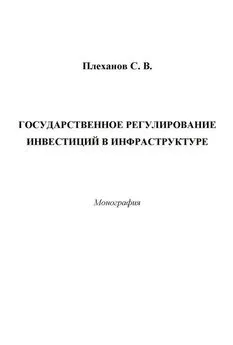Сергей Плеханов - Писемский
- Название:Писемский
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Молодая гвардия»
- Год:1986
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Плеханов - Писемский краткое содержание
Жизнь и творчество Писемского, автора таких этапных произведений русской литературы, как романы «Тысяча душ», «Люди сороковых годов» и др., тесная дружба со многими корифеями отечественной литературы и выдающимися представителями русской сцены, его общественная деятельность – все это дало возможность воссоздать судьбу писателя-демократа на широком фоне важнейших литературных, общественных и политических событий середины XIX века.
Писемский - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В конце 60-х годов стало появляться много материалов о масонстве. Как крупнейший знаток этой тайной доктрины перед русским читателем неожиданно предстал двоюродный брат Чернышевского известный историк и этнограф А.Н.Пыпин; на протяжении нескольких лет он печатал в журнале «Вестник Европы» очерки по истории «вольных каменщиков» в России. Факт публикации таких материалов в массовом издании говорит, с одной стороны, о том, что имелись силы, заинтересованные в популяризации масонства, а с другой, что редактор мог рассчитывать на успех пыпинских писаний – публика ждала чего-нибудь этакого.
Одна за другой выходили книги о масонстве – русских авторов и переводные. Взялись за популяризацию темы и беллетристы. Молодой, но уже известный романист Всеволод Соловьев (сын историка) написал «Волхвов» и «Великого розенкрейцера». Алексею ли Феофилактовичу было не заняться «вольными каменщиками»! Он-то их лично знавал, расспрашивал когда-то о тайнах братства своего дядюшку Юрия Никитича Бартенева, видел у него дома ковры со странными изображениями, необычные безделушки на письменном столе – миниатюрный мастерок, брелок с циркулем...
Интерес к масонству заметен уже в первых вещах писателя. Во всяком случае, упоминания о масонском прошлом его героев постоянно встречаются даже в повестях, написанных в молодые годы. «Сподвижник был большой... звание вольного каменщика имел... Сперанский лучшим другом считал его себе...» – говорит князь Сецкий об отце Веры Ензаевой, невесты Шамилова («Богатый жених», 1853 г.). «Смолоду... он известен был как масон» – сообщается о губернаторе из романа «Боярщина» (1844-1857 гг.). Даже в одном из фельетонов начала шестидесятых годов герой Писемского заявляет: «...в молодости моей служа при полиции, я был масон». Во «Взбаламученном море» появляются вольные каменщики в натуре: Евсевий Осипович Ливанов и его протеже Емельян Фомич Нетопоренко. Мелькает старый масон и в «Мещанах» – правда, за сценой. Но все это были слабые касания, не предвещавшие обращения писателя всерьез к теме масонства.
В период угасания жизненных сил и обостренного ожидания скорого конца неудовлетворенная духовная жажда с закономерностью приводила Писемского к раздумьям о масонстве. И Алексей Феофилактович с увлечением, мало свойственным ему в пору преждевременно наступившей дряхлости, берется за новый труд. Писатель перечитывает массу документов, книг, просит друзей присылать ему доступные им материалы. В декабре 1878 года он пишет своему французскому переводчику Дерели: «Начавшаяся уже зима у нас несколько облегчила мои недуги, что и дало мне возможность приняться за мое дело, которое я уже предначертал себе давно, но принялся за него последнее только время, а именно: написать большой роман под названием „Масон“. В настоящее время их нет в России ни одного, но в моем еще детстве и даже отрочестве я лично знал их многих, из которых некоторые были весьма близкими нам родственниками; но этого знакомства, конечно, было недостаточно, чтобы приняться за роман, и так как в настоящее время в разных наших книгохранилищах стеклось множество материалов о русских масонах, бывших по преимуществу мартинистами; их ритуалы, речи, работы, сочинения, и всем этим я теперь напитываюсь и насасываюсь, а вместе хоть и медленно, пододвигаю и самый роман мой».
Работа над романом пошла споро – Писемского захватила эпоха, которой он теперь занимался. Уходя каждый день на несколько часов в двадцатые-тридцатые годы, он словно бы молодел душой, это лучшее, честнейшее, по его мнению, время напоминало ему об идеальных стремлениях давно ушедшей юности. Исторический, по сути дела, роман требовал большой точности описаний, и само изучение старинного быта увлекало, заставляло забыть о хворях...
Задумывая новый роман, Алексей Феофилактович не очень точно представлял себе русское масонство как целостное явление, а его историю знал отрывочно. Единственное, что он хорошо запомнил из рассказов дяди, это то, что тайный орден начал действовать в России почти одновременно с явным возникновением масонства на Западе в начале XVIII века. Неявно же, как утверждал Бартенев, оно существовало несколько тысячелетий, по временам всплывая в форме различных сект, учений, орденов.
Засел в памяти у Алексея Феофилактовича и рассказ Юрия Никитича о том, что первая масонская ложа в России заседала в Сухаревой башне в Москве, и под началом петровского любимца Лефорта здесь собиралось «Общество Нептуна», членом коего был, между прочим, и сам Петр.
Мало-помалу, вчитываясь в масонские тексты, писатель начинал осознавать, что успехи тайного общества объяснялись отнюдь не проповедью самосовершенствования и человеколюбия, значившихся на знамени масонов. Все действия «братьев» говорили, что на самом деле эта организация представляла собой сообщество взаимного возвышения. На первых порах орден завоевывал верность вновь вступившего члена, оказывая ему немедленную помощь: чиновнику, ищущему хорошего места, предоставлялась вакансия, студенту – стипендия, заводчику – верный сбыт продукции по предприятиям, принадлежащим членам ордена. Под страхом лишиться полученных выгод все облагодетельствованные делались послушными своим таинственным покровителям. Те же из них, кто обнаруживал особую способность отрешиться от таких «предрассудков», как верность присяге, получали от руководства все более соблазнительные и выгодные протекции и, соответственно, поднимались вверх по иерархической лестнице братства. «Ты – мне, я – тебе» – оказывается, этот торгашеский принцип давным-давно утвердился в ложах. А железная спайка между дельцами всех профессий и убеждений служит гарантией сохранения тайны – так что, заключал Писемский, даже в тот «идеальный» век хватало жуликов...
Когда документы оказывались разноречивыми, Писемский отдавал предпочтение сведениям Бартенева, бывшего наперсником опального министра и даже оставившего обширную рукопись «Рассказы князя А.Н.Голицына».
Осведомленность Писемского «из первых рук» позволила ему представить в романе весьма достоверную и подробную картину русского масонства. Писатель с большим знанием дела изобразил не только обряды и «материальную часть» ордена, но и самих ведущих деятелей тайных лож – экс-министров, губернаторов, губернских предводителей дворянства, актеров, писателей (Сперанский, Мочалов, директор института слепых Пилецкий, Щепкин и т.д.). Московский почт-директор Булгаков (в романе Углаков) и почтамтские чиновники, молящиеся в масонском храме архангела Гавриила (в том самом, где когда-то побывал Алексей Писемский со своим дядей), священники-масоны в сельских приходах, посаженные туда «братьями» – владельцами тамошних имений, – это очень точно, «в лицах» показанные области внедрения фармазонов. Вся связь в империи, перлюстрация переписки, контроль над движением денег находились в руках почтового ведомства, подчиненного тому же Голицыну. Именно эта важнейшая часть государственного аппарата первой попала во власть ордена, здесь же очаги масонства тлели во все долгие десятилетия, пока масонство находилось под формальным запретом. Писемский ничего не выдумывал, да у него и нужды в этом не было – благодаря рассказам дяди (умершего в 1866 году) он располагал обширной информацией, а главное, знал недавнюю историю даже в бытовом плане. Поэтому упреки в беллетризации, вскоре посыпавшиеся с газетных и журнальных страниц, не могли умалить того факта, что с фактической стороны «Масоны» – достоверный исторический документ...
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: